О благой неудаче
«С ним случилось то, что всегда случается с нами, когда бросаем взгляд назад: настоящее непременно придает свою окраску прошедшему и после некоторого промежутка мы видим свою прежнюю жизнь под влиянием взглядов и впечатлений данной минуты».
Гастон Буассье.
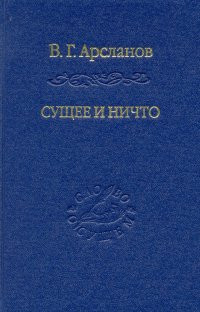
Арсланов В.Г. Сущее и Ничто. Постмодернизм и «Tertium datur» русской культуры XX века. — СПб.: Наука, 2015. — 639 с. — (серия «Слово о сущем»).
Память культуры — всегда усилие. Причем усилие настоящего — память принадлежит современности, в отличие от того, что памятуется или предано забвению. Последнее может принадлежать прошлому, а могло и не существовать никогда — мы ведь способны помнить о том, чего не было, и наша память всегда избирательна — даже если мы помним «верно», мы помним нечто одно, неизбежно извлекая его из его окружения, из прошлого. Потому и повторяется раз за разом (пере)открытие прошлого, которое никогда не тождественно с бывшим. Гастон Буасье замечал, вопреки обычным упрекам в
Память оставляет/собирает/создает то, что существенно для памятующих в данный момент — в этом смысле она никогда не принадлежит кому-то одному, какому-то одному субъекту: мы помним не только то, что желаем, но и то, что не можем забыть — в том числе за счет того, что это помнят другие, не поддающиеся устранению из нашего пространства.
В одной из своих поздних статей Мих. Лифшиц говорил — вопреки гораздо чаще повторяемому им утверждению о «справедливости истории» — что история «справедлива тем, что сознает свою несправедливость» [2]. Она не способна исправить причиненную несправедливость, но способна стать справедливее, принося поздний свет понимания.
Книга Виктора Арсланова — если угодно, то очередное «философское разбирательство» с XX веком, опыт применения оптики Лифшица, его путей понимания русской культуры как узла этого века: в конце концов — понимания революции, выходящего за пределы простых противопоставлений. Еще в 1933 году Лифшиц в предисловии к изданию Винкельмана писал:
«У Гёте есть следующий замечательный афоризм (“Kunst und Altertum», 1826): «Борьба старого, пребывающего, устойчивого с развитием, образованием и преобразованием всегда остается одной и той же. Из всякого порядка возникает в конце концов педантство, и, чтобы от него освободиться, этот порядок ломают; так проходит некоторое время, пока появляется сознание того, что нужно снова создать порядок. Классицизм и романтизм, принудительные ассоциации и свобода промысла, закрепление и раздел земли: всегда один и тот же конфликт, который в конце концов порождает новый. Самым умным со стороны правителей было бы так умерять эту борьбу, чтобы дело обошлось без уничтожения одной из сторон; но этого людям не дано, и бог, по-видимому, этого также не хочет”» [3].
Комментируя приведенную цитату, Лифшиц утверждал: «Великий Гёте был прав и вместе с тем неправ. Порядок и беспорядок, покой и движение, благородная простота и спокойное величие в противовес бурным явлениям жизни — все это понятия, относящиеся к вечным категориям действительности. Но поскольку эти противоположности вечны, они не имеют того неразрешимого характера, который придает им Гёте. Поскольку же оттенок трагического в них действительно присутствует, они не вечны, а исторически обусловлены» [4]. То есть «трагическое» оказывается здесь принадлежностью истории, вечное свободно от трагедии — впрочем, насколько «вечные категории действительности» оказываются тем, во что вплетается конкретное человеческое существование (временное), они приобретают трагическое звучание. Смерть неизбежна, но мало кто готов принять ответ римлянина на известие о гибели сына: «Я знал, что он смертен». Знание о преходящести любого действия, усилия, о том, что все имеет свой конец — если угодно, пустое знание.
Хобсбаум назвал «короткий двадцатый век» «веком крайностей». А крайности сходятся — порождая гетевскую цепочку «одного и того же конфликта», неприятие существующего выражается в его отрицании. Напротив, для Лифшица революция была именно «revolutio», возвращением, восстановлением, обращением — дурная бесконечность взаимных отрицаний противостояла бесконечности позитивной.

Бунт против существующего, вопреки намерениям, укрепляет то, против чего он направлен. Революция, напротив, осмысляется как «Restauratio Magna»: она совершается ради того, чтобы сохранить, восстановить то, что отвергается существующим — переходящим в противоположное по отношению к своим истокам, когда его генеалогия — одновременно и истинная и ложная, истинная в том смысле, что это действительно его «исток» (как свобода человеческой личности выступает истоком нововременной культуры), и ложная в том, что в своем осуществлении она оказывается прямо противоречащей ему. Революция оказывается синонимом реставрации — восстановления ценностей той самой культуры, против которой она направлена, потому что эта культура ушла от них. Если угодно, то бунт принимает самоаттестацию за истинную — он утверждает тождественность тех ценностей, к которым апеллирует эта культура как к своему основанию, с реальными, фактическими ее ценностями. И через это вновь укрепляет ее, намереваясь свергнуть: бунт против порядка побуждает нас ценить любой порядок, поскольку опыт существования в его отсутствие оказывается дан нам непосредственно, бунт против человеческого одиночества, изолированного существования ради радостей коллектива заставляет превозносить ценность непричастности, бунт против несправедливости оборачивается таким разгулом несправедливости, что предшествующее начинает цениться как возможное приближение к справедливой жизни, а в требовании справедливости, самой апелляции к ней начинают видеть пагубное, злонамеренное стремление, само слово «справедливость» начинает звучать для нас несправедливостью, побуждая заподозривать в ней произносящего его.
Из этого рождается ключевая для Лифшица и бережно развертываемая Арслановым тема великих консерваторов — проходящих через двойное отрицание, они не приемлют не только ложь старого, но и равным образом видят ложь нового. Первое не нуждается в отрицании с их стороны — не на это направлена их борьба именно потому, что оно уже отвергнуто новым, за счет прежней лжи, прежней несправедливости утверждающей свою, новую — получая возможность освобождать себя от правды прошлого, отождествив его с его ложью. Великие консерваторы велики не «вопреки» своему консерватизму, не «благодаря» ему, а одновременно — именно и вопреки, и благодаря, не получится «расчистить» прошлое исходя из оценок современности. Булгаков, «профессорский сын», неприемлющий революцию, оказывается видящим неприемлемую ни для консерваторов, ни для революционеров связь Преображенского и Шарикова — и приводит профессора к убийству, князь тьмы оказывается носителем справедливости (см. гл. II). В 1940 г., накануне закрытия «Литературного критика», Лифшиц пишет:
«Скажите прямо то, что вы думаете: высшей меркой литературного достоинства являются идеалы прогрессивной буржуазной демократии, выраженные в просветительной, якобинской или романтической форме; все остальные течения литературной мысли относятся к достойной презрения «идеологии первой половины XIX века». Но при этом придется отказать в «перспективности» не только Бальзаку, Софокл и Данте, Шекспир и Пушкин, — гении мировой литературы, изобразившие в суровых, истинных красках великую драму человеческого общества, — все они не подходят под установленную вами мерку прогрессивности, все они должны быть отброшены, если судить о литературе с точки зрения идеалов буржуазной демократии. Руководствуясь вашим критерием, придется поэта Рылеева поставить выше Пушкина, а юношеские стихотворения Пушкина («Вольность» или «Деревня») выше «Бориса Годунова или "Медного всадника». Более того: любого из «певцов свободы» в красном колпаке и домашних туфлях придется поставить выше Гете и Гейне, которые не раз издевались над гражданской поэзией честного Михеля. Вы, вероятно, сами не представляете, какие «неприятные последствия» может иметь эта насмешка над историей литературы» [5].
Революция принимается не потому, что Лифшиц или Лукач или другие представители «направления» не видят или принимают совершаемое зло — а потому, что отказ принять — не выбор добра, а выбор иного зла, безысходного: происходящее дает надежду, неприятие его значит смирение с тем, что нет истины, блага и красоты — нигилизм бунта поддерживает нигилизм порядка, большие слова и смыслы опасны тем, что принимают человеческие жертвоприношения, но ведь противостоять им невозможно, опираясь на «малые смыслы», на «микродействие».
Лифшиц видит на первый взгляд странное тождество «рапповцев» и «либералов», функционеров от советской культуры и официальной идеологии — и их противников, поскольку одно переходит в другое — не только по логике идей, но и персонально, в пределах одной биографии (если ее обладателю удалось уцелеть и прожить достаточно долго). На смену обличениям «помещика Пушкина» или разоблачению классовой сущности Бальзака приходит вновь знакомое еще по толстым журналам конца XIX — начала XX века «либеральное» литературоведение, рассказывающее о «восславившем свободу», создающим портреты классиков, пригодные к общему употреблению. Выбор в этом противостоянии, отождествление себя с ним является ложным — необходим третий путь, «щель» между двумя способами не видеть, обращая все вокруг себя в «инструмент», лишая его самостоятельного смысла и ценности. Это движение «зигзагом», в котором нет возможности, что кто-то примет тебя за «своего» иначе как по ошибке или тактических целей ради — впрочем, ведь и для самого Лифшица дела обстоят аналогично:
«Я люблю либералов, когда их не жалуют, и ортодоксов, когда у них руки коротки» (Мих. Лифшиц, из папки «Pro domo sua», стр. 376).
Впрочем, в старости Мих. Лифшиц писал, что все могло бы быть иначе: «[…] если бы преждевременная победа литературных сикофантов в 1940 году, очень может быть, что я по молодости лет и в силу слабости человеческой позволил бы себе подняться над средним уровнем в организационном отношении, стать более… тому… закону Анаксимандра, закону «дике», особо неумолимо действующему, как показал опыт последней смены элит, в революционные эпохи» [6]. Судьба была к нему милостива, избавив от постыдной удачи.
***
[1] Буассье Г. Собрание сочинений. В 10 тт. Т. 5: Падение язычества. Исследование последней религиозной борьбы на Западе в IV веке. Книги I — III / Пер. с фр. под ред. М.С. Корелина. — СПб.: Петрополис, 1998. С. 273.
[2] Лифшиц М.А. Лукач // Вопросы философии. 2002. № 12. С. 107.
[3] Лифшиц М.А. Соб. соч. В 3 т. Т. 2. — М.: Искусство, 1986. С. 111 — 112.
[4] Там же. С. 112.
[5] Лифшиц М.А. Надоело. В защиту обыкновенного марксизма / Сост., предисл. и коммент. В.Г. Арсланов. — М.: Искусство — XXI век, 2012. С. 451 — 452.
[6] Лифшиц М.А. Лукач… С. 109.
