Филип Гласс. Слова без музыки
В книге, написанной к своему восьмидесятилетию, крупнейший американский композитор-минималист — создатель экспериментальных опер-портретов «Эйнштейн на пляже», «Сатьяграха» (о Махатме Ганди), «Эхнатон», «Галилео Галилей», «Кеплер», соавтор Рави Шанкара, реформатор симфонического языка постмодерна, оказавший влияние на Дэвида Боуи и Брайана Ино, — оглядывается на свою жизнь и видит ее как протянувшееся во времени и пространстве «место музыки», куда можно возвращаться, как в Балтимор или Индию, и там «думать музыку». Потому что музыка Филипа Гласса это и есть его мысль и слово, это и есть та модальность, в которой работают его сознание, воображение и память. Перевод c английского Светланы Силаковой.
Когда на первом курсе я впервые принялся сочинять музыку, я был крайне слабо подготовлен к работе, которая впоследствии стала стержнем моей жизни. Вообще-то, у меня за плечами уже было много лет исполнительской работы, я хорошо знал, как надо упражняться, как выступать на публике. Началось все с уроков в Консерватории Пибоди: мне, восьмилетнему, сообщили, что в ее истории я самый юный учащийся. Школьником я играл в оркестрах в любительских постановках мюзиклов, эстрадных и симфонических оркестрах, а также в «марширующем оркестре» (в нем я был первой флейтой в группе флейт и барабанов). В десять лет я играл с церковным оркестром, исполнявшим мессы и кантаты Баха. Помню, я испытывал неподдельный страх перед выступлениями в церкви: я же из еврейской семьи. Не знаю уж, что меня пугало, — возможно, просто церковная обстановка казалась крайне непривычной. Наверно, хорошо, что тогда я преодолел страх, потому что впоследствии невесть сколько раз играл в церквях по всему миру, а однажды даже заключил церковный брак.
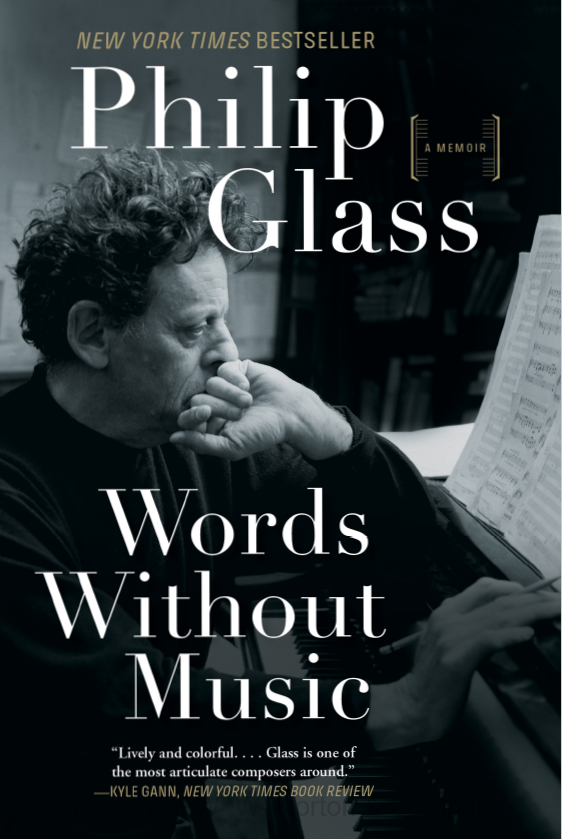
Почему я вообще начал сочинять? По самой простой причине. Призадумался над вопросом: «Откуда берется музыка?» Ни в книгах, ни в разговорах с
Благодаря работе в магазине грампластинок я
В то время почти не было грамзаписей, которые могли бы мне помочь. Фирма «Дайэл» издала оркестровую музыку Веберна для оркестра — опус 21. Мне также удалось найти пластинку с Лирической сюитой (струнным квартетом) Берга. Кажется, я отыскал какие-то фортепианные вещи Шёнберга и научился с грехом пополам, в сильно замедленном темпе, играть их на фортепиано. Если мне удавалось найти и запись, и ноты, я сравнивал ноты с тем, что слышал, и это немножко помогало. Когда один друг убедил меня послушать Чарльза Айвза — американского композитора начала ХХ века, у меня прибавилось сложностей. Я специально взял в библиотеке Конкорд-сонату. Играл Айвза с огромным трудом, то и дело спотыкаясь, но моментально влюбился в его музыку. Произведения Айвза были наполнены народными мелодиями. Он ничего не имел против присутствия напевов в своих вещах: они совершенно не были чужды его методу. Музыка Айвза была политональной и порой диссонирующей, но одновременно очень красивой. В действительности дистанция между диссонансом и красотой, естественно, не так уж велика.
Больше всего мне нравился Берг, австрийский композитор, учившийся у Шёнберга. Я досконально изучил его музыку: более романтичную, с гораздо более широким диапазоном эмоций. Она красива и не так строга, как музыка Шёнберга (музыка Веберна даже строже). Бóльшая часть этих произведений не оказывала на меня сильного эмоционального воздействия. Мне было бы легко забыть эту музыку, но я ею интересовался, поскольку за ней стоял метод композиции, доступный любому — умей только считать до двенадцати.
От этих первых встреч с «современной» музыкой, написанной задолго до моего рождения, у меня ум зашел за разум. Лишь ценой колоссальных усилий мне удавалось ее «визуализировать», даже если я помогал себе игрой на рояле (он стоял в комнате отдыха в общежитии Бёртона и Джадсона, почти не замечаемый другими жильцами), поскольку в ней не было ни привычных тональностей, ни обычных модуляций. Когда ты ее слушал, запомнить мелодию было трудно, потому что гармония запоминалась с трудом. Но не подумайте, будто в ней не было никакого обаяния. Порой она была весьма эффектной. Позднее такие композиторы, как, например, Карлхайнц Штокхаузен создавали еще более модернистские вещи, очень красивые. В любом случае, я сумел понять принцип, по которому строилась двенадцатитоновая музыка.
Купил чистую нотную бумагу, которая почему-то оказалась в университетской книжной лавке, и написал свое первое музыкальное произведение — одночастное трио для струнных. Поскольку рояля в моей комнате не было, я, проверяя себя, проигрывал всё на флейте. Я мог сыграть на флейте все партии и попытаться вообразить, как они звучат вместе; таким образом, за
Мое трио для струнных не было ни гениальным, ни совсем никудышным. Хорошо уже, что я впервые написал музыку. Куда подевалась ее нотная запись, понятия не имею. Я думал, она лежит в коробке с моими ранними произведениями, хранившейся в доме моего брата в Балтиморе. Но лет десять назад он прислал мне эту коробку, найденную в подвале. Трио в ней не было. Зато обнаружились давно позабытые мной сочинения «джульярдского периода».
В любом случае, вот где все началось: в библиотеке Чикагского университета я сидел над нотами, в комнате общежития пытался выстроить свое первое музыкальное сочинение. У меня пока не было преподавателя композиции, но я нашел себе два способа кое-чему поучиться. Первый — по книге Шёнберга. Я слышал, что у него есть книга по гармонии, но не мог отыскать ее ни в одном магазине. В конце концов выписал ее наложенным платежом, и через несколько недель ее прислали. Оказалось, это очень четкий, хорошо продуманный учебник традиционной гармонии. Я ожидал совсем другого, но, в сущности, именно такой учебник мне и требовался. По этой книге я начал изучать то, что называется «теорией музыки».
Окончив первый курс, я устроился в Балтиморе спасателем в летний детский лагерь, а всю зарплату — наверно, двести долларов — потратил на первые в жизни настоящие уроки композиции. Я брал их у балтиморского композитора Луи Чеслока, которого мне порекомендовали в Консерватории Пибоди. Это был самый настоящий, живой композитор, а его симфоническая музыка даже исполнялась — правда, изредка — Балтиморским симфоническим оркестром. Я приходил к Чеслоку домой, и он давал мне упражнения по гармонии и контрапункту. Так я получил азы настоящего музыкального образования. Он был очень хорошим преподавателем и с легкостью отвечал на вопросы, возникавшие у меня после первоначальной проработки книги Шёнберга. С Чеслоком я чувствовал прочную почву под ногами.

В начале 50-х мне казалось, что для композиторов открыт только один путь — продолжение европейской традиции модернизма, которая, в сущности, сводилась к двенадцатитоновой музыке, без вариантов. Однако существовали другие, неизвестные мне стили. Двенадцатитоновую систему не использовали некоторые модернисты, в том числе Стравинский, французский композитор Франсуа Пуленк, чешский композитор Леош Яначек, а также Шостакович, не говоря уже об американцах Генри Коуэлле, Аароне Копленде и Вирджиле Томсоне. Эти композиторы-тоналисты были тем или иным образом тесно связаны с фольклорными корнями классической музыки. Например, первые три балета Стравинского — «Весна священная», «Петрушка» и «Жар-птица» — основаны на русской народной музыке. В первые годы учебы в Джульярде у меня был друг по переписке в России, и мы обменивались нотами. Он прислал мне сборник русской народной музыки в аранжировках Римского-Корсакова, где я обнаружил все мелодии из «Жар-птицы» и «Петрушки».
В Чикаго я слышал некоторые произведения этих композиторов-тоналистов (оркестр Фрица Райнера исполнял Бартока). Не сказать, будто я не знал их творчество. Просто в определенных кругах ему не придавали особого значения. Разумеется, вскоре я познакомился с другими разновидностями новой альтернативной музыки, в том числе с вещами Гарри Парча, Джона Кейджа, Конлона Нанкарроу, Мортона Фелдмана и многих других.
В нашей среде возник этакий неформальный кружок, посвящавший много времени прослушиванию музыки. Казалось бы, мы просто проводили таким образом досуг, но впоследствии это сыграло неожиданно большую роль. Я слушал музыку вместе со своими балтиморскими приятелями Томом Стейнером и Сидни Джейкобсом, а также Карлом Саганом, который тогда тоже учился в Чикагском университете, а впоследствии стал известным астрофизиком и космологом. Наша компания очень серьезно изучала записи произведений Брукнера и Малера. Стоит напомнить, что в начале 50-х школа Брукнера и Малера была практически неизвестна за пределами Европы. Только в 60-х она приобрела колоссальную популярность в Штатах благодаря дирижерам — прежде всего Леонарду Бернстайну. Итак, мы часами сидели всей компанией, слушая записи симфоний Брукнера и Малера, сравнивая версии (некоторые пластинки, надо сказать, было нелегко раздобыть даже в Чикаго) Бруно Вальтера, Яши Горенштейна и Вильгельма Фуртвенглера.
Среди этих трех дирижеров Фуртвенглер, высокий и властный, выделялся как виртуоз медлительности. Он умел находить между четвертными нотами почти немыслимые промежутки тишины. Своевольно менял динамику и темп, навязывал слушателю свою предрасположенность к крайностям в музыке. Откровенно навязывал музыке свои предпочтения, и тебе это либо приходилось по вкусу, либо совершенно не нравилось. Его трактовка Бетховена слыла спорной: очень уж отличалась от подхода других дирижеров. Тосканини, в противоположность Фуртвенглеру, был стремителен. Разница в длительности между их интерпретациями Пятой симфонии Бетховена порой составляла минут двадцать. Поразительно, до чего разные трактовки.
Спустя много лет я познакомился с другим виртуозом медлительности — нашим Бобом Уилсоном, вместе с которым делал «Эйнштейна на пляже». Брукнер и Бетховен «в манере Фуртвенглера» во многом подготовили меня к восприятию Уилсона. Правда, Боб играл не с темпом музыки, а с темпом зрительного ряда, но это, в сущности, одно и то же. У Фуртвенглера и Уилсона метроном щелкает намного реже, чем щелкал бы в уютном темпе, совпадающем с нормальным сердцебиением человека. И эти воистину великие и глубокие художники открывают нам мир безмерной, неизмеримой красоты.
У Брукнера и Малера меня интересовала не только оркестровка, но и колоссальная длительность их произведений, которые запросто могли длиться полтора часа, два часа. Мне нравился этот размах. В
Однажды мой опыт прослушивания Брукнера нежданно-негаданно сослужил мне хорошую службу. В 2002 году мой давний коллега и друг, дирижер Деннис Расселл Дэвис, в прошлом дирижер Симфонического оркестра Венского радио, сделался музыкальным руководителем и дирижером оперного театра в Линце и его Брукнеровского оркестра. Благодаря Деннису мои симфонии были исполнены в Австрии. Когда я впервые отправился в Линц, мной владело заблуждение, будто в исполнении какого-нибудь американского оркестра моя музыка прозвучала бы лучше, потому что американцам понятны ритмы моих сочинений.
К моему изумлению, Брукнеровский оркестр исполнил эти сочинения лучше, чем американские оркестры. Оказывается, звучание музыки Брукнера оставило, сам не знаю как, отпечаток в моем сознании. Я воспринял его вещи, переварил их целиком, и они сохранились в моей памяти. Работая над операми — например, над «Сатьяграхой» — я ловил себя на том, что делаю похожую оркестровку: все струнные играют вместе, блоками, все деревянные духовые играют вместе, блоками, а я беру эти блоки и умудряюсь переставлять их
Австрийские музыканты подивились, что я знаю эти произведения и так горячо ими увлекаюсь. Это подготовило почву для нашей дружбы — дружбы композитора с исполнителями. Я был совершенно очарован тем, как зазвучали у них мои симфонии (я ведь довольно много написал специально для этих музыкантов) в интерпретациях Денниса и в их прекраснейшем исполнении. Через сродство с этими музыкантами, их дирижером и оркестром в целом, я глубоко ощутил связь этой работы с собственной биографией — с моим настоящим и, безусловно, с моим будущим. Пожалуй, подобный опыт есть лишь у немногих американских композиторов.
