Манифест Кети Чухров "Передвижной театр коммуниста" и рецензия Павла Арсеньева на книгу "Быть исполнять: проект театра в философской критике искусства"
В связи с подготовкой нового выпуска [Транслит]: Драматургия письма, который будет посвящен взаимопроникновению театра и литературы, публикуем манифест Кети Чухров «Передвижной театр коммуниста», впервые вышедший в 5-ом номере [Транслит].
Впоследствии идеи театра становления были развернуты автором в книге «Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства» (Спб.: Издательство Европейского университета, 2011), рецензию на которую также даем здесь. Рецензия Павла Арсеньева «Притворяться, пока не получится искренне» была опубликована в Художественном журнале №82
Поддержать выпуск нового номера и другие издательские проекты можно по ссылке на краудфандинговую кампанию

Манифест
Недавно ко мне пришло ясное понимание того, что искусство не может не быть коммунистическим. Это вовсе не проявление идеологии, как кажется некоторым. Это также не догмат. Просто вдруг стало очевидным, что все искусство — от Древней Греции до сегодняшнего дня — то искусство, которое преодолело в себе эгоизм и самомнение — содержит в себе потенциальность коммунистического. Независимо от его пессимизма или оптимизма, такое искусство посвящено не
Когда я говорю коммунистический, то, конечно, имею в виду не принадлежность к партии, а мировоззрение. Именно эта мировоззренческая широта, превышающая границы одного государства, нации, класса, художественной школы, частные или даже духовные интересы конкретного индивида, предполагает потенциальность коммунистического в художественной работе.
Это значит, что в самом художнике есть силы быть не одним человеком, а многими, — силы не просто наблюдать за жизнью, за множеством живущих, а быть или становиться ими посредством искусства.
Такой режим искусства, где художник может быть «многими», существует. Достоевский умел быть многими. Шекспир. Бетховен. Введенский, Хлебников, Брехт, Моцарт, Маяковский, Платонов, Беккет. Режим, о котором я говорю, — это театр. Я, конечно же, не имею в виду репертуарный, жанровый театр. 99 процентов репертуарного театра — это просто культурное зрелище. Театром я называю некий антропологический и политический режим, который возникает как способность артистически исполнять саму трансформацию.
Этот неизбежный переход к театру для меня произошел с одной стороны от поэзии, а с другой — от современного искусства. В поэзии заковывающим фактором выступала монологичность, какая-то обреченность на акмеизм, на лирику, — т. е., в итоге, на то, чтобы все время разбираться с собой, даже говоря о мире, да еще часто кастрируя наследие и авангарда и модернизма. Современное искусство — в некотором смысле полная противоположность поэзии. Оно не психологично, не субъективно. По большому счету, оно до сих пор работает по модернистскому канону свертывания мира к собственным художественным языкам.
Однако постоянная референция современного искусства к собственной территории и к инновациям приема уже в 70-ые исчерпала себя и была вынуждена остановиться либо на репродукции собственных языков, концептов и комментариев, либо на бесконечном воспроизведении остраненных пространств как модусов оптического бессознательного. В любом случае, даже когда современное искусство делает попытку приблизиться к событию, оно не успевает это сделать, потому что само сразу же аннулирует свою попытку. Пространства репрезентации, экспонирования и комментирования современного искусства устроены так, что, чем бы ни занимался contemporary art, он в конечном итоге неизбежно занят собой и своими границами.
Даже перформанс (или акция), несмотря на процессуальность и развертывание в «живом» настоящем, является по сути инсталляцией концепта в пространстве и времени. Это статичный экспонируемый арт-объект. Его вынуждают быть таковым.
Театр, напротив, динамичен. Он представляет собой опыт перформинга (исполнения), а не перформанса. В режиме не ставшего, но становящегося действия он обращается к тому, чего еще нет — в обществе, жизни, искусстве: он не просто проживает время, а исполняет время — т. е. способен иметь дело с настоящим, как если бы оно могло быть будущим.
Выставочные пространства, даже тематизируя определенные социально-политические проблемы, остаются связанными с политикой вещей и пространств. Театр предполагает политизацию между людьми. Театр — это опыт, оставляющий вещи позади, опыт становления сознания невещественным. Если в перформансе его участник априори концептуализирует себя как артиста, то в театральном исполнении становление артистом происходит благодаря тому, что перформер (актер) становится человеком и его политической судьбой: т. е. он становится художником благодаря тому, что в игре исполняет человека.
Театр — это пространство людей, а не пространство художников. Но парадокс в том, что становление человеком нужно исполнить, а концептуальное арт-пространство перформанса художник должен обживать натуралистически и физиологически, оставаясь при этом отчужденным индивидом. Театр, даже в том случае, когда речь идет о монологе, является диалогом, начинает с числа «2».
Театр способен говорить и разыгрывать идею без редукции к голой форме или нейтрализованному концепту. Ибо идея в театре развертывается как живая материя отношений — в режиме нередуцированного много-людия и многоголосия.
В поэзии, например, сложно преодолеть закованность в habitat «Я». Ничего плохого в habitat «Я» нет. Как нет ничего плохого в наблюдении субъекта за реальностью, за людьми, за обществом. Но это перспектива одной точки зрения, одного сознания.
У Мейерхольда есть такое понятие cabotinage, каботэны, которое он считал одним из важнейших свойств театра. Оно означает странствующих комедиантов, играющих где угодно. Т. е. не прикованных к помещению, пространству и времени, но создающих и пространство и время из исполнения ими миров, идей, людей и пр.
Театр, безусловно, публичен, но часто понятие публичности отождествляется с аудиторией, которая созерцает спектакль, т. е. с созерцаемостью действия как зрелища. Но публичность предполагает и то, что театр имеет потенциальность быть про всех, про то как мир есть для всех, про то как быть с миром, если он не для всех, и как быть с теми, кто по
В этом смысле способность театра касаться политики превышает возможности языков contemporary art, какими бы многочисленными они ни были, а также возможности поэзии, какой бы экзистенциально глубокой или социально острой она ни была. Так как политическое в театре не является темой или проблемой, но проясняется между людьми, когда эти люди не просто документируемые объекты или созерцаемые характеры, а говорящие политические субъекты.
Суть драматизации в том, что она никогда не сводится к репрезентации какой-то одной идеи, но многие идеи, или идеи-люди сталкиваются в конфликте, так, чтобы выход или вывод из этого конфликта проистекал из самого действия, а не полагался заранее.
Голоса и речи театра — это не просто звуки, мнения и нарративы, привычные для многих видеоработ и документаций contem¬porary art. Это не интервью пострадавших, сообщающих о том, как они пострадали, или изложения случившегося. Театр иначе обходится со страданием, чем медиа, современное искусство, литература или поэзия. Он включает в себя исполнение такой роли самим пострадавшим или т. н. угнетенным (ужасное слово, унижающее достоинство человека), которая была бы (артистическим) исполнением собственной победы над обстоятельствами. В этом политическая, эстетическая и коммунистическая потенциальность театра.
Уметь учиться говорить не только от себя, но в случае, как и автора, так и актера, говорить вместо многих других. Это приходится сделать хотя бы для того, чтобы понять или прояснить, что произошло или происходит среди нас, в нашей стране, в нашем государстве, в мире, чтобы понять, как в нем дальше быть. (Не с такой ли целью Гамлет запускает свой «театр»?).
Самое трудное — вообразить не только свое развитие и совершенствование — пусть и достигшее высот в миросозерцании — но узреть развитие и совершенствование других. Т. е. понять универсальное динамически, множественно, как действие, — «вдоль», а не конусообразно, спиритуально.
Я полагаюсь на одну презумпцию —художественные достижения не засчитываются, и духовные искания трансцендентного ничего не стоят, если они имеют место благодаря тому, что в них не учитывается большое множество людей этого мира, не имеющих ни времени, ни места, ни условий элементарного выживания, не имеющих того люфта бытия, когда человек думает, творит, любит, живет. Никакое личное подключение к возвышенному не засчитывается, если не понять, что все люди, кем бы они ни были, потенциально — художники, ученые, инженеры, философы, собеседники, соратники, просто люди; без них полнота мира и жизни недостижима. И потенциально они тоже способны думать так же. Только и всего. Это коммунистическая презумпция на пальцах.
Коммунизма в принципе нет и никогда не было, но есть проект коммунизма. Его не может не быть так же, как не может не быть человека, пока он есть, пока есть люди в их множестве.
Многие противятся коммунистическому в себе, в реальности, в искусстве, в истории. Это из страха за себя, свое благополучие, свою, пусть маленькую, но власть, свою успешность, свои долгим трудом приобретенные образование и культуру, наконец. Этот страх присущ всем без исключения. Он животный. Ну и что. Его можно преодолевать. Вполне возможно думать о себе как будто о других, как будто не о себе. Это очень трудно, но становится легко, когда эти мысли обретают плоть в ситуации артистического исполнения.
Передвижной театр коммуниста — это в некотором смысле возможность временно (артистическое время временно, хоть и претендует на бессмертное) создавать отношения политического эроса теми средствами, которые есть в наличии сейчас; пусть временно, но вносить это артистическое коммунистическое пространство в существующее окружение вопреки обстоятельствам. Это делают столько человек, сколько этого хотят и могут сейчас, в том месте, которое они для этого нашли сейчас. Для тех, кто готов к встрече сейчас.
Кети Чухров
Притворяться, пока не получится искренне
Рецензия Павла Арсеньева на книгу Кэти Чухров «Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства»
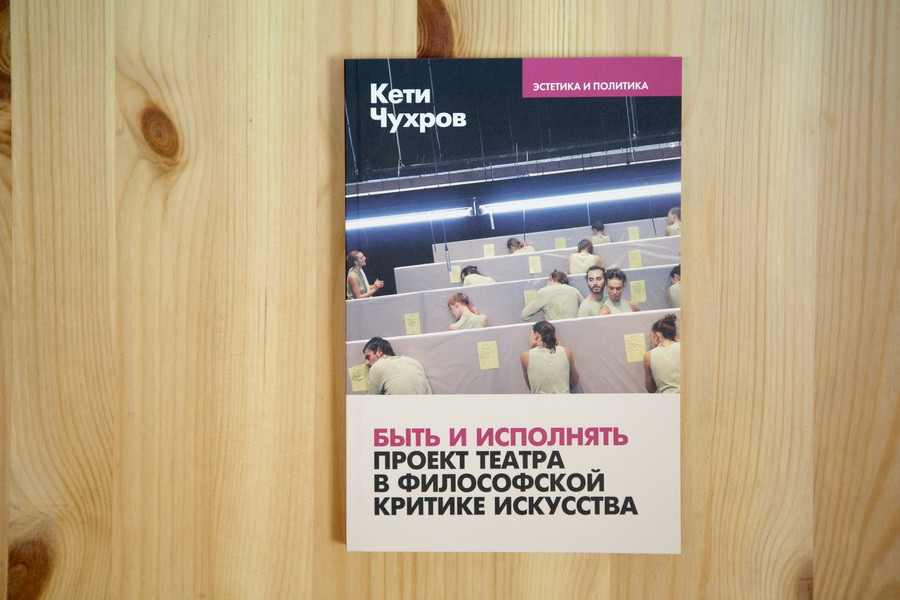
Прежде всего, необходимо сказать, что книга «Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства» написана не просто философом и теоретиком культуры Кети Чухров. Она написана также поэтом, музыкантом, исполнителем, или, если использовать обозначение, предпочитаемое самим автором, артистом Кети Чухров. Помимо двух поэтических сборников [1], она — автор театральных перформансов, реализующихся на территории современного искусства. А дальше начинаются оговорки: идентичность поэта претит Чухров, свою исполнительскую практику она определяет как перформинг, противопоставляя его традиционному перформансу. К современному искусству с его овеществлением и эстетизацией угнетения она относится с недоверием, а что до авторства, — то с ним вообще все сложно. Свою книгу Чухров начинает с присяги авангардистско-концептуалистской программе распредмечивания искусства. Эта программа подразумевает отказ от выставочного режима функционирования объекта в пользу «открытого соотношения с пространством», причем не в последнюю очередь и с пространством социальным. Исполнительская практика в таком «театре» является даже не столько актерской или художественной, сколько человеческой и гражданской. Таким образом, «театр» (слово, употребляемое в книге преимущественно именно в кавычках) — это некий антижанр становления, не имеющий ничего общего с накоплением художественных приемов или дискурсивных эффектов. По сути, это даже не мастерство (techne), а антропологическая практика.
Именно в поиске аналогий собственной теоретической программе и исполнительской практике Чухров проводит ревизию всей философской мысли от Хайдеггера, Деррида и Агамбена до Ницше, Делеза и Бадью. Автор, как в самом начале и предупреждает, исследует не реальную историю драматического искусства (произведения и их места в культуре), но «становленческий переход человека к артистической практике» исполнения, который не ограничен ни хронологическими, ни институциональными рамками и может состояться (исполниться) когда и где, а самое главное, кем угодно [2].Далее в лабиринтах философской теории искусства происходят странные сближения. Радикальное абстрагирование от бытового измерения жизни («харчевый принцип» Малевича) парадоксальным образом сочетается с сознательным артистическим «становлением миноритарным», то есть с высказыванием от имени обездоленных. Преодоление отчужденной и сакрализованной предметности приводит к возвращению чувственно-материального на некоем новом уровне — когда ценностью становится не фетишизированное сознание, но другой человек, совместность как таковая. Связь человека с (освобожденными) вещами неожиданно замещается диалогическим столкновением с другими людьми. Эмпирическое и идеальное сливаются, что отражается не столько на «содержании» исполняемого, сколько на самом подходе к исполнению, игре: исполняется не
Понятие театра, таким образом, с одной стороны, разрастается до метафоры вообще любого («настоящего») искусства, а с другой, становится именем исключенного другого, того, что не получило реализации в искусстве с политической и эстетической точки зрения. Это и делезовское повторение (не равное воспроизведению), в котором «речь говорит раньше слов», и соматическое прото-произведение Подороги, вопреки всегда-уже состоявшемуся исчезновению которого только и появляется произведение как инстанция мертвой буквы, и не застрахованная мышлением «голая жизнь» Агамбена, которую человек перенимает у животного как некое первичное знание или предел собственного незнания, из которого невозможно и не нужно выходить в действие, и ницшеанская «эстетическая игра», преодолевающая хтоническую скорбь от смерти бога в своего рода артистической практике — причем скорее практике эмансипации, нежели эскапизма, — и многое другое.
Главный акцент — как в случае театра, так и в случае музыки (столь же существенного опыта для Чухров) — делается не на состоявшемся и, следовательно, ставшем ценностью произведении, но на его исполнителе, медиаторе, что не может не напомнить Шкловского: «Главное — пережить делание вещи, а все сделанное в искусстве неважно». Все виртуозно сделанное — искусственно и, следовательно, ложно. Всякое же делание, принципиально доступное каждому, — чревато становлением другим — и, следовательно, подлинно. На месте автора-демиурга оказывается исполнитель, владеющий только знанием-как: состояние «тела в этих условиях неуловимо не только для внешнего восприятия, но и для него самого, поскольку его восприятие во время исполнения в
Однако задача Чухров заключается не только в предупреждении захвата территории искусства посвященными знатоками и монологическим автором — фигурами, характеризующими модернизм. Не менее важно для нее не дать сровнять искусство и с постмодернистской знаковой поверхностью, где авторитарного автора уже нет, но и речевое событие сводится к одному из знаков в сети различий.
Согласно этой почтенной французской традиции, не только наши мысли, но и наши действия всегда обречены быть опосредованы знаками. Совершая увлекательный экскурс в историю семиотики, Чухров и там обнаруживает позитивную линию мысли, в которой акцент делается на непрерывности порождения действия, а не на непрерывности взаимных отсылок знаков. Согласно американскому философу-прагматику Чарльзу Пирсу, истина знака обнаруживается по мере выводимости из него реального действия, а субъект, использующий знаки, действует так же, как врач, не знающий диагноза, но верящий, что его действия приведут к цели. Несмотря на то, что в нашей речи всегда присутствует множество голосов других и она никогда не аутентична, мы можем исполнять саму непрочность собственного существования. Чухров приводит пример Гамлета, в случае которого не имеет значения, идет ли дело о «настоящем» психофизическом безумии или его инсценировке — одно не только не противоречит, но даже предполагает другое. С определенного момента Гамлету уже недостаточно просто «быть» (что бы под этим ни подразумевалось), но необходимо производить свое бытие — в игре. Быть и, значит, исполнять.
Таким образом, смерть автора в версии Чухров приводит не к становлению анонимной стихии текста, но к истребляющей социальные ярлыки практике становления другим, то есть предоставления голоса тем, кто лишен права голоса, но не способности к нему. В результате отказа от собственного имени исполнитель «вступает в исполнение других имен». Такая антропология исполнительства предполагает своеобразный обмен ролями между принцем и нищим: автор становится другим «во имя того, чтобы становиться и представать посредством своего театра тем обездоленным, которым искусство доступно вопреки их обездоленности». Тем самым обездоленные как бы избавляются от своих социальных ограничений, обретают голос.
Если Ахматова, согласно ее собственной оценке, научила говорить женщин, то Чухров расширяет аудиторию своего учебного театра до всех угнетенных. Слово «угнетенный», кстати, она не любит — оно является одним из тех ярлыков, избавить от которых и призвана «артистическая» практика.
Выстраивается следующая оппозиция, которую отмечает сам автор. В классическом театре «боль мира» банально удваивается зависимым от нее сценическим знаком («стиснутым кулаком»), в постмодернистском — «боль мира» то ли аннулируется, то ли анестезируется, чтобы победить дематериализацию вещей в капитализме художественной свободой сочетания знаков. Срединное решение Чухров заключается в том, чтобы за «болью» следовал не зависимый знак (этот самый «стиснутый кулак») и не ее вытеснение в серии знаков, а «некая абсолютная парадоксальность, совершенно не похожая на боль, но и не оторванная от нее генетически». Далее в тексте книги может следовать уточняющая серия означающих: «эстетическая игра», театр, исполнительская практика. В этом кумулятивном ряду «генетическое» у Чухров как ни в чем не бывало может оказаться само собой разумеющимся синонимом «эмансипаторного». Впрочем, пояснение присутствует, но такое: «запрос на свободу аннулируется, если он лишен драматизации и коллизии, если процесс превращается в произвольную молекулярную циркуляцию». И дело не в том, что эта фраза вырвана из контекста, ведь именно он и запутывает событие в хитросплетениях знаковой поверхности.
Все несколько проясняется в последней главе «Современное искусство и его “отрицательная генеалогия»». В ней Чухров обращается к старинному сюжету теории отражения и противостоящего ей проекта автономии искусства — с Лифшицем и Адорно в главных ролях. С их точки зрения наиболее губительно для искусства отчуждение. Но если для первого угроза появляется, когда искусство отказывает в существовании так называемой объективной реальности и претендует на автономное исследование собственных языков, опровергая связь между человеком и миром, то для второго — искусство отчуждается, когда, напротив, становится дорого (и, добавим, понятно) бюргеру, то есть простому человеку. В принципе этот спор разрешается одним простым уточнением, согласно которому с помощью искусства (по аналогии с естественным языком) можно совершать самые разные «речевые акты», но не только и даже не столько констатирующие. Что история и доказывает, если учесть хотя бы сосуществование в ее рамках жанров элегии и памфлета. Чухров, признающей безусловное право искусства на превышение реальности, но также ценящей и его тактильную связь с миром, как всегда ближе не Лифшиц и не Адорно, но нечто третье. В авангарде, как «революционном расширении модернизма», преодолевается не только миметическая зависимость от «пустой» или «злой” реальности (что реализовывалось и в модернистской изоляции художественного мышления от мира), но преодолевается и само запирательство суверенной личности или языка. «Реальность не обязательно отрицать или отражать, с ней, пребывая в ней, можно работать».
Авангард и есть такой тип «речевого акта», который не отрицает существование реальности, но совершает в отношении нее некоторые преобразовательные действия — в форме творческого и коллективного усилия. Недостаточно только обратить взгляд на картину энтропии, необходимо сделать так, чтобы угнетенное обрело голос — «реальность может быть не просто увиденной, она может быть переигранной», настаивает автор. Именно с позиций авангарда Чухров критикует не только среднего художника, удаляющегося от «зон жизни», но и современное критическое искусство, скрупулезно их документирующее (как в случае фильмов Артура Жмиевского). Последнее, по ее мнению, оказывается «лишь зрелищем для социально ответственного, развитого и в меру сердобольного среднего класса», «помогает обществу убаюкивать свою совесть», одним словом (взятым из лексикона Чухров), — удаляется от боли мира, не становясь и ее артистическим пресуществлением.
Таким образом, теоретическое намерение автора заключается в следующем: освободить искусство («театр») от подчиненности монополии автора и необходимости просто транслировать тяжесть существующего положения вещей, придав ему характер свободной игры (знаков и масок), — но одновременно не позволить ему оторваться от боли мира, предать забвению обездоленных и предаться самодостаточной игре знаков. Именно с этой целью и выстраивается вся антропология исполнительства как загадочной «эстетической игры», независимой от мира, но и не целиком произвольной, — а артистические эффекты становления другим приравниваются к ношению маски, но такому, которое спровоцировано «глубинным» событием и обусловлено теологией пресуществления.
Центральным означающим оказывается именно игра. Игра актера или исполнителя, довольствующегося лишь практическим знанием («знанием-как»), оказывается схожей с практикой любого носителя языка, прибегающего к различным языковым играм без владения специальным лингвистическим знанием. Это интуитивное умение, это чувство игры, достаточное для участия в языковых и художественных обменах, напоминает в свою очередь номинальные свойства агента социальной практики из фразеологии социоанализа [3]. Так, ни разу не касаясь почвы «фундаментальных знаний о мире», исполнитель успевает не только оказаться в мире среди других, но даже совершать в нем определенные действия при помощи различных артистических и политических практик.
Павел Арсеньев
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Чухров К. Война количеств. СПб: Борей-Арт, 2003. 96 с.; Чухров К. Просто люди: Драматические поэмы. СПб. М., 2010 (Kraft: Книжная серия альманаха «Транслит» и Свободного марксистского издательства). 68 с.
[2] Эти соображения в сжатой форме изложены самим автором в манифесте «Передвижной театр коммуниста», опубликованном в: Транслит, № 5. СПб., 2009 (эл. версия: http://trans-lit.info/5/keti.html).
[3] Бурдье П. Практический смысл. СПб., М.: Алетейя, «Институт экспериментальной социологии», 2001.
