На грани: случаи миграции (в) кино
Мы продолжаем нашу кочующую из номера в номер практику коллективного письма. В этот раз обсуждаем связь миграционных и кинематографических процессов. Здесь много раз звучит понятие мигрантское кино, которое для нас объединяет фильмы о мигрантах, фильмы, снятые мигрантами, а также фильмы, которым подходят обе характеристики. Каждую категорию можно исследовать отдельно, но мы лишь подступаемся к разговору об этом пласте кинематографа, поэтому используем общее название. Мы приходим к мысли, что кино и кинематографические образы тоже мигрируют, преодолевают границы, трансформируются из-за перемещения. Таким образом они говорят об опыте миграции не только через репрезентацию, но с помощью других, более тонких каналов.

ГРАНИЦЫ И СВОБОДА
Миша Иткин: Миграция — преодоление границы. Границы существуют для того, чтобы их преодолевали. И хотя это звучит парадоксально, обычно так и случается. Довольно странно, что они существуют, если учесть, что живое или неживое вечно преодолевает свои и чужие границы. Но представление о границе лежит в основе мироздания — как в христианстве (рай|ад|земля), так и в науке (Земля|космос). Перешагивание этих рубежей возможно, но настолько рискованно, что почти бессмысленно (за это расплатились и Ева, и Орфей, и космонавты в «Гравитации» (2013) Куарона).
Возводить новые границы проще, чем преодолевать изначальные. На земле люди непрестанно отграничивают себя от животных и друг от друга, сооружают ограды, заповедники, зоопарки, гидроэлектростанции, зонируют пространство. Люди верят, что границы защищают от нападения врагов, покушения на целостность их дома. Однако рознь зачастую обусловлена самим существованием границы, инаковостью тех, кто живет за ней.
Преодоление границ связано с насилием, но в случае миграции насилие направляется не вовне, а вовнутрь. Миграция разрушает стены, в которых жил человек, и отказ от одного дома в поисках другого помещает субъекта в транзитное положение (поскольку отсутствие границ возможно только в движении), в котором он зачастую задерживается, именуя новым домом — дорогу. Кочевники, люди дороги, люди без дома — это вечные мигранты, которым не хватает времени, желания, сил ассимилироваться к языку, месту или человеку, потому что ассимиляция предполагает остановку и привыкание к новым границам. Движение без остановок, без конечной точки назначения — миграция в своем абсолюте. Людям, живущим в домах, может казаться, что постоянство движения дарует счастье, но даже примеры абсолютных путешественников — Фёрн из «Земли кочевников» (2020) или какого-нибудь Джеймса Бонда показывают, что преодоление границ связано с побегом от конкретного времени или пространства, тогда как чувство счастья обычно локализовано. Гораздо труднее, чем счастье, локализовать и классифицировать чувство свободы.
Лена Голуб: Свобода часто ассоциируется с концептом «мира без границ». Подобную многообещающую риторику мы слышим из каждого утюга. «Мир без границ» — не только коммерческий и/или туристический лозунг. Однако современность не позволяет игнорировать реальные конфликты и их территориальные и исторические основания. Мы все больше сталкиваемся с тем, что пространство продолжает костенеть: реакционные политики настаивают на укреплении национальных суверенитетов и привилегий, новых границ и старых как мир систем неравенства. Все это провоцирует разного рода войны — от абсолютно безжалостных экономических до совершенно адских вооруженных столкновений. Физические границы чрезвычайно опасны, особенно для тех, кому приходится их пересекать. Границы открыты только как раны. Постоянное потрошение этих ран не дает им затянуться. Кажется, что границы надо не устранять, а переосмыслять, выходя из бинарной ловушки решений, где есть только «укрепить» или «уничтожить».
Я чувствую, что кино — это пространство проблематизации границ и пограничных состояний. Границы в кино пролегают между видео и пленкой, документом и вымыслом, нарративным и ненарративным, личным и политическим. А если речь заходит о фильмах, которые сами по себе являются опытом пересечения границ, изгнания, беженства или миграции, то пограничность субъектности героев становится особенно выпуклой.

«Календарь» (1993) Атома Эгояна — это остроумное исследование субъектности, памяти и отчуждения. Этот исполосованный границами фильм создает очень тревожное чувство непринадлежности. Герои фильма обладают универсальной капиталистической идентичностью, границы будто бы стерты. Но картина полна призрачных эффектов этих неосязаемых границ.
Фильм устанавливает странные отношения между эмпирической действительностью и художественной постановкой. Главного героя — фотографа — «играет» сам Атом Эгоян. Его жену и переводчицу — Арсине Ханджян, жена Атома Эгояна. В фильме есть еще водитель, герой Ашота Адамяна. Это герои-функции, в фильме у них нет имен. Но главный герой фильма — экземпляр настенного календаря с фотографиями храмов Армении. Календарь разделяет фильм на 12 частей, каждая из которых структурно повторяет другую.
Воспоминание в виде такого сувенира разъедается его же присутствием. За этим памятным фетишем — пустота. Так, фильм начинается апрелем, календарный бегунок на числе 24. В пределах фильма 24 апреля ничего не значит. Но это день памяти жертв армянского геноцида. Пустота и вокруг святых мест: их не навещают паломники, там нет даже туристов. Пустая Армения. Фильм снимается и выходит в самый разгар Арцахской войны между Азербайджаном и Арменией, но он молчит и об этом. Но это не невежество. Это пустота, невидимый образ потери и изгнания.
Все в фильме существует через отчуждение, возведение границ. Границы особенно чувствуются между персонажами. Фотограф, живущий всю жизнь в Канаде, не знает армянского. Он также ничего не знает о местах, в которые едет. Водитель готов побыть экскурсоводом, жена — переводчицей. Но ее перевод съедает целые пласты историй, а фотограф не может вступить в прямую коммуникацию со своими спутниками. В итоге его жена отдаляется от него и влюбляется в водителя. Отсматривая домашние VHS-пленки, фотограф пытается обнаружить тот самый момент, когда все покатилось по наклонной. Эти записи не дают ответа, но свидетельствуют об онтологической дистанции между фотографом и миром. Сам фотограф отсутствует, прячется за камерой. Он взаимодействует с другими героями посредством камеры, и, когда жена просит прогуляться с ней, он отказывает, потому что не может оставить свое устройство без присмотра. Хотя вокруг никого нет.
Это путешествие к памятникам — опустошающее воспоминание. Сейчас фотограф в своем доме в Канаде. По утрам он пытается установить контакт со своей женой через автоответчик. Вечерами он ищет ей замену, пользуясь услугами эскорт-агентства. В гости к нему приходят девушки-мигрантки, и ни с одной из них у него не получается построить взаимодействие.
Критик Стивен Холден точно отметил в своей рецензии, что фильм можно было бы назвать «Секс, ложь, видеозапись, пленка, телефон и автоответчик» [1]. Бесконечное культурное, историческое, эмоциональное, капиталистическое отчуждение.

МИГРАЦИЯ (И) КИНО
Даша Чернова: Миграция — это не только про человека, покинувшего один дом в поисках другого. Это в первую очередь перемещение, то есть преодоление места. Семантика слова расширяет мое представление об этом процессе: мигрировать может не только человек или животное. Миграция — это переосмысление пространства, прощупывание новых границ и рельефов, как самого места, так и тел в нем. При этом миграцию можно рассматривать не только в пространственной плоскости, но и во временной. После перемещения мигрант ассимилируется во времени: привыкает к часовому поясу, к скорости речи и ходьбы, к темпу жизни людей в другой стране.
Кино как условно пространственно-временное искусство само по себе представляется мне мигрирующей силой. Фильмы, описываемые с точки зрения принадлежности к кинематографу определенной страны, почти всегда выходят за ее пределы, распространяются по миру и образуют связи с новыми местами. Фильм, родившись в одной стране (а чаще сразу в нескольких!), «живет» одновременно в десятках. Кино не закреплено за «домом», оно существует на разных мониторах, языках, в разных озвучках. «Идентичность» фильма изменчива, его перемещение в обычном и цифровом пространствах всегда трансформирует его в вариации самого себя — копии, разделенные на части, дополненные субтитрами, рекламой, измененные разрешением экрана. Некоторые фильмы, как мигранты, тайно и с риском для себя пересекают границу. «Это не фильм» (2011) Джафара Панахи вывезли из Ирана во Францию в торте. Burma VJ: Reporting from a Closed Country (2008) стал возможен только потому, что кадры Шафрановой революции в Мьянме, несмотря на государственный запрет, передавали в иностранные СМИ. Советский фильм «Деревенский детектив» (1969) десятилетиями лежал на дне моря где-то рядом с Исландией, рыбак выловил его и передал журналистам, а американский режиссер Билл Моррисон решил создать на его основе новый фильм The Village Detective: A Song Cycle (2021), используя разъеденную солью пленку [2].
Неявное, случайно обнаруженное сходство этих процессов расширяет возможность разговора о репрезентации опыта мигрантов в кино. Вспоминая мигрантские фильмы, я уже держу в голове эту базовую способность кино к глобальному распространению, отмене четких территориальных и институциональных границ. Отличительной чертой мигрантских фильмов я вижу также отмену языкового однообразия, сложность перевода фильма без утраты его многоязычной уникальности. Помню, как я была растеряна во время просмотра «Гив ми либерти» (2019) Кирилла Михановского: русский и английский языки смешивались внутри одного предложения. «Дед, you’re gonna be late!» Go Down Moses в исполнении пенсионерок-мигранток звучит саундтреком к кадрам провинциального американского города и как будто смещает его — он уже не совсем в Висконсине. У Шанталь Акерман в фильме «С другой стороны» (2002) граница между языками, наоборот, очень четкая, как стена, разделяющая США и Мексику. В первой половине фильма звучит только испанский язык, во второй герои говорят на английском. Это явное разделение усиливает ощущение невозможности перейти за стену, обосноваться в пространстве других грамматических и фонетических правил. Завершает фильм французская речь: Акерман размышляет о судьбе героев на фоне кадров движущейся по дороге машины. Французский становится языковой транзитной зоной, как и дорога, которая одновременно ограничивает, разделяет, но и прокладывает путь к новому пространству.
Миша Иткин: Можно добавить, что в процесс миграции кино неизбежно включается и зритель. Сам кинопросмотр организует зрителя как ситуативного мигранта, который знакомится с неизведанной для него культурой, ассимилируется к языку, «путешествует», никуда не передвигаясь физически. Это особенно чувствуется, например, когда европеизированный зритель сталкивается с феноменами азиатской культуры, с ее особым ритмом, мелодикой и тональностью речи, иной жестуальностью — в целом, иным подходом к репрезентации.

ACCENTED SPEECH: ЯЗЫК, АКЦЕНТ, АКЦЕНТИРОВАНИЕ
Ира Ломакина: То, что Даша отметила про язык, — очень здорово. Я тоже вижу этот часто встречающийся маркер в мигрантском кино. Например, в фильме Маши Годованной Countryless and [] (2020) диалог строится на переплетении нескольких языков: английского, русского, немецкого… Герои быстро переключаются с одного языка на другой, при этом не теряя связь в коммуникации. Это указывает на лиминальную субъектность []-мигрантов. Но также и на отсутствие границ в вербальном и метафорическом смысле — привыкшие к пересечению государственных границ, они постоянно мигрируют из одного языка в другой, выстраивая в процессе множественный и гибридный нарратив.
Еще мигрантское кино в языковом аспекте отличает акцент. Акцент — составляющая голоса. Младен Долар, например, указывал, что голос является элементом, соединяющим субъекта и Другого [3]. Акцент же часто является маркером инаковости, тем, что соединяет и разъединяет одновременно; составляет ситуацию включенности и исключенности из социального (читай — политического) поля.
Лена Голуб: Акцент — важное средство кинематографии изгнанников [4]. Благодаря кинематографист_кам и исследователю кино Хамиду Нафиси лингвистическое понятие «акцента» мигрирует в кинематографическое поле. Нафиси пишет об акценте не только как об акценте в языке (или акцентированной речи героев и героинь фильма). Акцент может быть условием стилистических компонентов, свойственных фильму. Акцент — это прежде всего смещение. И его мы можем наблюдать в визуальной форме, структуре повествования, конфигурациях персонажей, сюжетах, темах, проблемах, структурах их чувств и чувствительности самого фильма. Акцентированность, смещение также касаются способов производства фильма и истории его создателей. Здесь речь идет о смещенности самого производства в сложившихся практиках индустрии и о создателях фильмов как об эмпирических субъектах, которые находятся на стыке культур и кинопрактик [5]. Не все фильмы о миграции можно назвать акцентированными. Однако, как мне кажется, акцентированный кинематограф — наиболее честная и искренняя форма для выражения опыта миграции.
В классическом, особенно в голливудском кино, акцент не был надежным индикатором этнической или национальной принадлежности актера. Он часто разыгрывался или фальсифицировался на базе стереотипных представлений о звучании языка. В акцентированных фильмах граница между жизнью и фильмом гораздо более зыбкая.
Многие фильмы об опыте изгнания, а также миграции, как было замечено выше, многоязычны, многоголосы или многоакцентны. Это обстоятельство часто затрудняет кинопросмотр и создает такую ситуацию, в которой потенциальный зритель будет ощущать постоянное ускользание. Просмотр такого кино будет требовать усилия, переключения с одного языкового регистра на другой.
Фильм «Диалоги изгнанников» (1975) Рауля Руиса начинается разговором двух мужчин. Один спрашивает другого: «Откуда вы?» Его собеседник ускользает от одного-единственного ответа при помощи апофатических реакций на возможные догадки собеседника (кстати, периодически меняя язык ответа). Нет, он не испанец, не итальянец, не португалец, не швед, не южноафриканец, не египтянин… Ответ всегда один: «Нет, гораздо дальше».
Это фильм о жизнях чилийских изгнанников, сбежавших от диктатуры Пиночета. Их дни в сером Париже полны счастливых, но в той же мере печальных переживаний. Сам Руис — тоже изгнанник — снимает их насущные и в то же время нарочито театрализованные разговоры. В фильме диалоги структурированы и тонированы подобно «Разговорам беженцев» Бертольта Брехта — такие же саркастические, иногда безжалостно резкие. Диалогическая сеть выстраивается вокруг «похищения» изгнанниками чилийского поп-певца. В кавычках, потому что это похищение в чилийском стиле: никакого насилия — певца угощают хлебом с солью кукурузными пирогами и выпивкой, предлагают ему танцы и ночлег. Так несчастный оказывается в плену сердечности и заботы.
Но более важно в этом фильме то, что пересказать не получится. Руиc предвидит проблемы, общие для всех национальных сообществ и диаспор в изгнании. У них нет нового места, они переезжают со своим самоваром, часто карикатурно практикуя национальные традиции и создавая культ национального колорита, как будто бы Чили в концентрированном виде переехало во Францию вместе с ними. Решая возникшую проблему сохранения идентичности, а также реальные проблемы выживания, они часто забывают о политическое борьбе. Адаптация к новой среде поглощает все их время и внимание. И Руис достаточно суров к своим товарищам по несчастью. Как они могут продолжать политическую борьбу в стране, где они теперь вынуждены добиваться социальных выплат, доказывать свое желание интегрироваться невежественным благодетелям из французских социальных служб? И все это происходит, пока их страна наполняется кровью несогласных с диктатурой. Тем не менее главную миссию фильма — провокацию диалога — можно признать состоявшейся.
Ира Ломакина: Если продолжить тему «расставления акцентов»… Например, Томас Эльзессер и Мальте Хагенер замечают, что такое акцентированное кино реализует контакт: с домом, с родиной или с утопическим будущим (тема дома — вообще одна из самых распространенных в мигрантском кино). Итак, эту возможность контакта они видят в особой визуальности подобных фильмов: в тактильной оптике, «приоритет которой отдается не-визуальным, гаптическим и обонятельным образам и воспоминаниям» [6]. Особой тактильностью обладают фильмы в жанре хоум-муви (home movie), который в целом плотно связан с домашним с точки зрения «сюжетности».
Такую специфику акцентированного стиля можно заметить, например, в фильмах Аббаса Фахделя, который снимает на видеокамеру свою [утрачиваемую] родину, сотрясаемую войной. В фильме «Родина: Ирак, год нулевой» (2015) запечатлена частная хроника семьи режиссера предвоенного и военного времени. Он возвращается в Багдад после долгой эмиграции во Францию и снимает буквально все: родных, семейные посиделки, бытовые дела. С первых же минут заметен особый прием, которым пользуется Фахдель: он часто зумирует кадр. В этом акте реализуется тот самый контакт с домом: при помощи такого вглядывания автор исследует структуру своего пространства. Здесь запечатлен опыт выкраивания места для себя и своей семьи во время серьезных потрясений. Камера часто переводит взгляд на телевизор, записывая информационный и тревожащий шум, но тут же ускользает в поиске равновесия внутри дома и улиц родины. Акцентирующий взгляд через камеру Фахделя здесь всегда интенсивен: в размытом, резком изображении открывается возможность гаптического взгляда как прикосновения, выстраивания пространства на ощупь. Теоретик Лора Маркс трактует гаптический эффект как «чистое переживание» [7]. В фильме Фахделя именно за внешне «некачественной», «невизуальной» составляющей изображения кроется возможность личного переживания и тактильного прикосновения к родному месту. Таким образом, акцентированное кино — это не только определенный способ кинопроизводства, но еще и особый тип видения, присущий человеку, который при помощи камеры проживает опыт перемещения.

РАСЩЕПЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Даша Чернова: Мигрант — это раздвоенная (или удвоенная?) личность, которая в один миг может оказаться чужой для всех (уже-не-своей и еще-не-своей) и вынуждена примерять идентичности. В «Хлебе и шоколаде» (1974) Франко Брузати достаточно трагичного маскарада: Нино, итальянский мигрант в Швейцарии, вместе с друзьями устраивает кустарное травести-шоу: переодетые в женщин, они поют «мужскую» песню о тоске по сексу с итальянскими дамами. Веселым это кажется, только когда искусственность выпирает: Джиджиа, у которой из корсета торчат черные густые волосы на груди, вызывает крики и смех, а Розина за секунду убивает воодушевление — костюм не выглядит как часть шоу, парень действительно похож на девушку. Случайный образ заставляет героя почувствовать себя в чужом теле — слишком отличающимся от его. Так же и с новыми знакомыми Нино, которые работают на ферме и живут в бывшем курятнике. Они организуют для героя куриное шоу: кудахчут, кукарекают, дерутся по-петушиному. Но ему не смешно, а страшно. Они так похожи на кур, чьи общипанные туши висят снаружи, что на улыбку уже нет сил. Переодевания и новая прическа (брюнет Нино красится в блондина, чтобы больше походить на швейцарцев) — материализованный поиск места в новой системе координат, помещение себя в пространство чужого и чуждого под видом не-себя. Но выбранная для удобства или от безысходности идентичность приклеивается к телу и вынуждает героев идти против себя «из прошлого». Однако новое и старое только на первый взгляд кажутся противоположными — на самом деле новое не отменяет присутствия старого.
Лена Голуб: Мотив раздвоения действительно очень явен в фильмах о миграции и изгнании. Мне вспоминается почти хрестоматийный пример фильма о миграции — «Танго, Гардель в изгнании» (1985), снятый на языке тела «закулисный» мюзикл Фернандо Соланаса. Главные герои фильма — артисты, бежавшие в 1976 году из Аргентины. Застряв между двумя мирами (Аргентиной и возможным будущим в других странах), изгнанники ставят танго-мюзикл («тангедию», как они сами это называют). В 1976 году в результате правого военного переворота к власти в Аргентине пришел безжалостный режим. Жестокая «грязная война» (общее название для террористических мер, используемых аргентинским правительством того времени) нового режима против гражданского населения включала в себя пытки и убийства тысяч людей (в том числе так называемые полеты смерти — казни, во время которых накачанных транквилизаторами заключенных сбрасывали с самолетов в океан). Соланас покидает Аргентину и остается в Париже до 1984 года, когда аргентинские военные отказались от власти после катастрофического поражения в Фолклендской войне с Великобританией.
«Танго…» очень чувственно работает с разными гранями переживания изгнания. Драматургия фильма выстраивается вокруг изматывающей борьбы создателей и исполнителей тангедии за поддержку французских благодетелей. Это делает необходимость и желание интеграции несовместимыми. Тангедия — это смысл жизни в изгнании, страстный жест жизни, позволяющий переживать свою идентичность вновь и вновь. И это должно продолжаться, пока герои находятся не на своей земле. Над постановкой изгнанники работают вот уже десять лет.
Создание постановки — это удерживающий нарратив, к которому прилипают осколки разговоров, писем и воспоминаний. Герои поддерживают связь с родиной через переписку. И эта эпистолярность усиливает ощущение потери, какой-то половинчатости существования — ни сами персонажи, ни зритель не видят адресатов. В частности, в фильме много сцен, в которых аргентинские изгнанники пытаются позвонить на родину. Постановщик тангедии Хуан Дос (Хуан Второй) звонит своему «двойнику» Хуану Уно (Хуану Первому), чтобы получить новую порцию вдохновения.
Но субъекты не всегда ломаются пополам, иногда они разлетаются фрагментами, и их киноопыты становятся практикой собирания этих осколков. Например, как у Йонаса Мекаса.

НЕОПОСРЕДОВАННЫЙ ОПЫТ МИГРАЦИИ
Ира Ломакина: Для меня в разговоре о мигрантском кино водоразделом стоит вопрос о (ре)презентации опыта перемещения. На мой взгляд, «настоящее» (простите за претенциозность) мигрантское кино — это когда есть человек, камера и процесс запечатления опыта миграции. Такой подход мне близок тем, что исключает привилегированную фигуру «режиссера» — того, кто обладает возможностью репрезентировать (а значит, интерпретировать, перекраивать, устанавливать) опыт Другого. Когда речь идет непосредственно об опыте, на мой взгляд, не может быть никакой опосредующей инстанции. Конечно, здесь я не могу обойти стороной Йонаса Мекаса, который вынужденно покинул дом, а в Америке первым делом приобрел 16-мм Bolex и начал снимать все подряд. Из этих проб и ошибок потом выросли фильмы, которые все синефилы уже сто раз посмотрели, но которые я продолжаю нежно любить: Walden or Diaries, Notes and Sketches (1968) и Lost, Lost, Lost (1976). В чем особенность этих работ? Как раз в непосредственном запечатлении опыта в объективе. Камера будто вбирает все, на что не способно человеческое восприятие: фиксирует ракурсы, все случайные и резкие движения, всех прохожих, все обрывки фраз, все-все детали в пространстве. Она становится вместилищем и резервуаром тяжелого опыта, который Мекас просто не может вынести в одиночку.
Фильмы Йонаса Мекаса исследователь Ти Джей Демос формально отнес бы к искусству диаспор [8]. В нем он различает некоторые повторяющиеся приемы: дизъюнктивный монтаж (англ. disjunctive, то есть разъединяющий, альтернативный), текстовые вставки, дезориентирующие пространства. Все это можно увидеть в вышеприведенных фильмах Мекаса, и это довольно аскетичный язык, который подобен самому беженцу — тому, у которого ничего нет [9].
Полина Трубицына: Миграция и кино, репрезентирующее опыт мигранта, для меня — развоплощение мечты, высвечивание постепенного разрыва желаемого и обретенного. Пожалуй, если долго смотреть и выбирать то самое кино, то приходишь к Йонасу Мекасу. Он сумел воплотить чувственный процесс миграции в собственную кинодневниковую форму. Кадры запечатления всего, что происходит в чужой стране, синтезируют поэтическое и политическое, внешнее и внутреннее, прошлое и настоящее, рождая фильм-дневник, почти роман.
В репрезентации личного опыта у Мекаса важна фиксация окружающей реальности. Камера становится не только проводником, сопровождающим его в новом чужом мире, но и глазами, и руками. Именно она помогает автору увидеть и нащупать новые объекты, еще никогда не встречавшиеся режиссеру и вместе с ним — зрителю. Мне интересен разрыв, который присутствует в его работах. Для меня он выражается прежде всего в монтаже и звуке. Монтаж в кинодневниках действительно можно назвать дизъюнктивным, как это выше отметила Ира. Как будто по-другому показать потерю дома и постепенное обретение нового безопасного личного места — невозможно. Невозможно заснять полноценные кадры бегства из родной страны, семьи. Невозможно передать ужасные дни пребывания в трудовом лагере. Невозможно передать эти ощущения. Возможно захватить настоящее. Возможно захватывать моменты из бытовой жизни, из жизни сообщества литовских эмигрантов. Возможно заснять лица новых знакомых, друзей. Возможно запечатлеть случайный момент. Возможно отрефлексировать свои чувства и придать им структуру мыслями и голосом. В последних двух главах фильма-дневника Lost Lost Lost объектив захватывает новые места, явления, объекты, воспоминания и запечатывает их в кадре (the frost, the clouds, the wind, the childhood, the window, the river, the snow, the field, the hills, the foul, the summer, the evenings, the winter, the friendship, the house, nothing at the end of the road). При этом закадровый означивающий голос Мекаса, который выстраивает в линейный нарратив скачущие сцены, резонирует со звуковой дорожкой. Финальная сцена визуальной семейной идиллии у него буквально заглушается громким звуком, показывая совершенную несостоятельность желаемой гармонии. Эти кричащие кадры будто указывают на невозможность обрести дом из-за громкого эха преследующего прошлого.
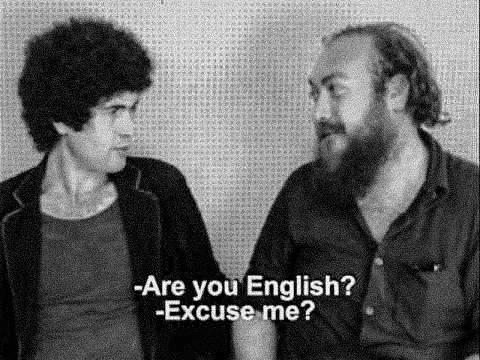
Ира Ломакина: В том же Countryless and [] Маши Годованной, который я упоминала чуть выше, сообщество выстраивается не по национальному принципу. Этот фильм-встреча []-мигрантов на территории одного города — Вены — реализован почти в привычном документальном режиме. Но то, что отличает этот фильм, — предельная осторожность к репрезентации, к личному пространству Другого.
Лена Голуб: Я согласна с тобой, Ира. Фильм Маши Годованной — это опыт как он есть, не его пересказ и не его репрезентация. Потому что вместо того, чтобы представлять своих героев, говорить за них, Маша устанавливает с ними контакт. Этот фильм больше похож на свидетельство или след взаимодействий, он сам — средство и практика отношений. В нем много искренности, открытости и неуверенности, которые добавляют уязвимости, создают эстетические риски, особенно когда речь заходит о «неудачах» самого фильма и его героев. Все задействованные в создании фильма устройства также становятся акторами: тактильная камера, телефон, принимающий звонок во время съемок, чувствительные к шорохам аудиозаписывающие устройства… Их внимание часто фокусируются на смещенностях, обочинах пространства (окраины города или квартиры), пограничных состояниях между социальной реальностью и сном-воображением.
Мне кажется, очень важно помнить, что [] — это теория и практика постоянных ускользаний от определений. Countryless and [] опрокидывает эссенциалистский подход и никогда не дает ответов на вопросы, кто такие []-персоны и кто такой мигрант. Избавляясь от категорий и ярлыков, фильм становится борьбой с политикой идентичности. Выше Ира говорит, что язык в фильме Маши — это средство ускользания. Это интересно, потому что мне кажется, что мы больше привыкли к связи языка и идентичности: говорить на языке другого, еще и с акцентом — это значит сохранять ее. Здесь акценты, языки и их неочевидная спаянность, напротив, разламывают идентичность и, как следствие, ожидания.
***
Этот коллективный текст был впервые опубликован в пятом номере самиздата о кинематографе «К!», который вышел в феврале 2023 года.
Примечания
[1] A Tapestry of Symbols and Animosities.
[2] Подробнее читайте в статье Никиты Лопатина «Сила тяжести и кино. О нескольких фильмах Билла Моррисона» в пятом выпуске самиздата о кинематографе «К!».
[3] Младен Долар. Голос и ничего больше. СПб., 2018. С. 233.
[4] Я предпочитаю понятие «изгнанника» «мигранту», поскольку оно более собирательное. Изгнанники — не обязательно мигранты, но также «перемещенные лица», «беженцы» и другие.
[5] См. об этом: Hamid Naficy. An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton, 2001.
[6] Томас Эльзессер, Мальте Хагенер. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., 2021. С. 250.
[7] Laura Marks. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Durham and London, 2000.
[8] T. J. Demos. The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary during Global Crisis. Durham, 2013.
[9] Подробнее читайте в тексте Иры Ломакиной «Терять больше нечего. Опыт перемещения Йонаса Мекаса» в пятом выпуске самиздата о кинематографе «К!».
