Люба Макаревская. Сломать красоту
В текстах Любы Макаревской (сокращение имени здесь не столько маркер «инфантильности», сколько своеобразное самоумаление) противопоставлены статичная, словно бы обернутая в целлофан среда и уязвимый, виктимный субъект (женщина). Любое проявление внешнего мира воспринимается как насилие по отношению к телу, также окутанному воображаемой, галлюцинаторной пленкой унижения. Можно сказать, что Макаревская стремится разыграть — или, как сказал бы Делез, подвесить — сцену встречи палача и жертвы, рассматривая ее подробно, словно в операционной или прозекторской. Подобная сцена, согласно Макаревской, является установочной для мироздания вообще, именно в ней корень всех отношений между пребывающими в разъятости вещами и телами. При этом социальные отношения и исторические сюжеты служат для Макаревской (необязательными) декорациями, в которых вновь и вновь развертывается (что отражается и на предъявляющем свою структуру рисунке стиха) дезинтегрирующая коллизия этих текстов.
Д.Л.
Болезненный рисунок
твоего горла
и медленное притупление
восприятия
словно от эха
далекого смеха.
Желание отдаться
свету
его проводам
его паутине
как поцелуям
Когда она увидела
желто-серый
колодец двора
куда ее вывели
равный глазному
дну чудовища
Она смогла
только засмеяться
прикрывая свой
рот небольшой
ладонью
за секунду
до выстрела
Исчисление времени
после смерти
и исчисления
всего что бы
я хотела сказать
тебе обращая
свою речь
в клятву
Вдруг наполнилось
кровью
захаркало кровью
стало кровью
и перестало быть
важным
Осталось только
небо
его холодное, но
никогда не статичное
движение
даже в глазах
расстрелянной
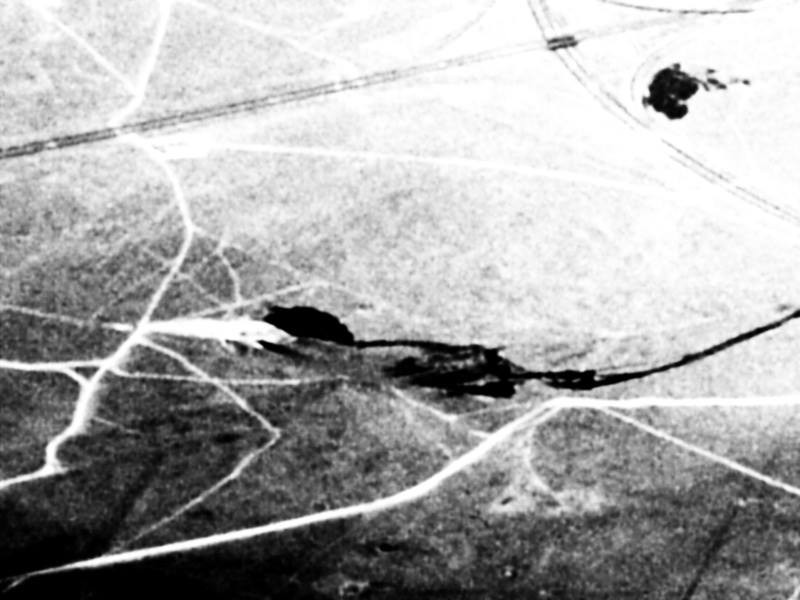
«Комната»
Они снова и снова
идут в дальнюю комнату
дома утерянного
до войны
чтобы заняться
любовью.
Они возвращаются
в эту рассеченную
солнцем комнату
и им кажется
что все ее стены
натерты мылом
и пахнут им.
И когда он снимает
с нее блузку
ее дрожь
заменяет собой
белое круговое
движение воздуха
и его мучительное
выражение лица
застывает в ее крови.
И свет заполняет
собой всю
пахнущую мылом
комнату
как взрывная волна
ее последствия.
И они видят солнце
и память становится
только заменой
зрения теперь
когда она лежа
в его руках
видит как воспаляется
солнце.
Она надеится
запомнить это
эхо света
на своей и его
коже
до столкновения
со временем.
/И язык пенится и исчезает./
И дальняя комната
дома
вся искрится
и светится от слов
переполненных любовью
до войны
и после
после
после
нее.

А потом он
ударил меня
и я ударила его
в ответ только
чтобы получить
удовольствие
сломать красоту
чтобы увидеть ее
Вспомнить
как любимое лицо
с мороза
собственные пальцы
когда холодный ожог
утверждает кожу
/как удар/
И я вынесла себя
за скобки языка
разрезанного
сопротивлением
Снег — это
только еще
один опыт
опыт сияния
и ему нет
конца.

Она гладит свои
перебинтованные руки
словно узнает
их заново
как отделяемый
от кожи озноб
после дней тепла.
Слюна приобретает
цвет золота
и живое воспаление
заволакивает пленка
первого холода.
Как говорят
с друг другом
после войны?
как мы станем
говорить
с друг другом
после войны?
Мертвые точки
в сознании
огибают сами себя
точно первые
снежинки
на канатах ветра.
Упражнение по удалению
памяти.
А потом я решаюсь
вспомнить
решаюсь на воспоминание
как на опыт боли
и приговариваю
себя к нему
как к твоему
телу.
Чтобы ужас
смог вылизать
мой рот
как любовь
до конца
до черной пустоты
тоннеля
до нахождения
в ней
как во чреве
зверя
как в себе самой.

В излучении света
не света?
мы шли друг к другу
как равно удаленные
фигуры заряженные
на смерть
чтобы я только
могла сказать
тебе
через это
минное поле
или рассвет
восстающий
в горле
отрезанное от всего
пожалуйста
и взглянула
на необратимо
измененный состав
пространства
как медсестра
посмотрела бы
на спирт
в ране.

В истончение ткани
представить себе
разрез воздуха
как разрез
кожи
перелом кости
и прикосновения языка
к нёбу больного
короткое замыкание
вначале фиксации
фаз убывания
и я размыкаю
руки словно
глаза
чтобы слезы
обрели себя
изымая все
опустошение
из расчлененного
растерянного
цветения
сирени.
