Жизненность / документальность: между поэзией и кино
Разговор Кирилла Адибекова, Кирилла Корчагина, Дениса Ларионова и Екатерины Сувериной о кинематографическом образе в современной поэзии.
Летним днем 2015 года два исследователя поэзии встретились с двумя исследователями кино. Итогом этой встречи стал следующий диалог, в котором делается попытка проследить, что же
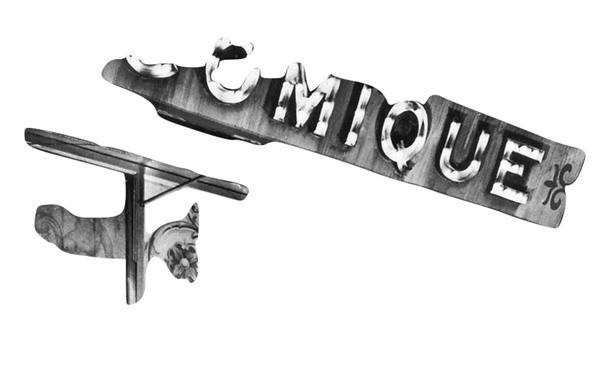
ЗРИТЕЛЬ КИНО / ЧИТАТЕЛЬ ПОЭЗИИ
КИРИЛЛ КОРЧАГИН: Два первых тезиса, от которых можно отталкиваться. Первый тезис касался субъективности в кино и поэзии. Можно сказать, что субъект современного поэтического текста — это почти всегда зритель кино: когда мы читаем текст, мы понимаем, что тот, кто с нами говорит, воспринимает всё происходящее «глазами кинокамеры» — его взгляд «отформатирован» опытом просмотра.
ДЕНИС ЛАРИОНОВ: Быть может, имеет смысл говорить о двух способах взаимопроникновения поэзии и кино: с одной стороны, о том, как визуальный опыт обуславливает создание поэтического текста, с другой, — о том, как, перефразируя Годара, можно снимать кино поэтически. То есть хотелось бы совместить теоретический взгляд и взгляд практика-кинематографиста.
ЕКАТЕРИНА СУВЕРИНА: Здесь важно то, что субъективный и объективный порядки могут смешиваться: в современном театре это достигается при помощи метода вербатим (об этом была книга Марка Липовецкого и Биргит Боймерс), а в кино — при помощи документальности. В обоих случаях зрителя немножко «обманывают»: например, в кино документальная камера сочетается с драматичным сюжетом, заранее написанной историей, которую, конечно, нельзя назвать документальной. Такая подмена вводит в заблуждение критиков, которые при разговоре об этом кино всегда задают вопрос, как оно соотносится с жизнью. Для них существует два полюса: с одной стороны, жизненное кино, с другой — гиперреалистичное. Например, о «Волчке» Василия Сигарева обычно говорят, что это гиперреалистическое кино, мой же тезис состоит в том, что режиссеры подменяют субъективность документализмом и таким образом стремятся наблюдать за реальностью.
КИРИЛЛ АДИБЕКОВ: На эту проблему действительно можно смотреть из перспективы «новой драмы», но на самом деле она всегда присутствовала в кино: например, когда ранние американские или советские режиссеры говорили о том, что стараются подбирать не актеров, а типажи, то есть схватить реальность такой, как она есть. Но если мы говорим о кино, то следует разграничивать реальность в целом и кино, которое перемешивает и переставляет фрагменты реальности.
КИРИЛЛ КОРЧАГИН: Мне хотелось бы сконцентрироваться на двух упомянутых вещах: это жизненность и документальность. Эти категории подходят и для поэзии: современные поэтические тексты также часто упрекают в том, что они «нежизненны», при том, что жизненные тексты для такого читателя существуют — это то, что он читает в различных поэтических пабликах, на страницах популярных поэтов. В то же время, существуют яркие примеры документальной поэзии — такой, которая сознательно использует различные документальные свидетельства, преобразуя их в материал поэтической речи. Хрестоматийные примеры здесь — «Стихи о Первой чеченской кампании» Михаила Сухотина , «Текст, посвященный трагическим событиям 11 сентября в
ЕКАТЕРИНА СУВЕРИНА: То, как современное российское кино работает с документом, лучше всего иллюстрируется деятельностью Бориса Хлебникова и Алены Солнцевой в рамках проекта «Кинотеатр.doc». Важно, что этот проект существует вопреки той государственной культурной политике, которая была сильна уже в двухтысячные, — с рассуждениями о «суверенной демократии», бесконечной подменой исторических реалий, восприятием субъектом через призму заранее отобранных исторических мифов и т.п. «Кинотеатр.doc» появляется в 2005 году во многом в противовес этому движению: он провозглашает работу с документом — документом, который оказывается равен реальности как таковой. Хлебников и Солнцева, конечно, лукавили: в этом типе документальности мы имеем дело не с реальностью, а с особой позицией субъекта, несогласного с мнением «большинства», с тем, какую картинку транслируют медиа, — он в некотором смысле настаивает на отдельности своего мнения.
ДЕНИС ЛАРИОНОВ: Таким образом, «жизненные» тексты принадлежат «большинству», некоей «титульной» социальной страте, формирующей символический порядок: пресловутая «жизненность» — это в таком случае синоним титульности самой этой страты. При этом «документальность» — это всегда письмо «против шерсти», которое легче вообще не учитывать, не замечать, не в последнюю очередь потому, что в этих текстах описываются чудовищные вещи. В них мы имеем дело с речью человека проигравшего — того или той, чей голос не будет услышан, тогда как «жизненные» тексты транслируют мажоритарные социальные смыслы, укрепляют уверенность общества в собственной правоте.
ЕКАТЕРИНА СУВЕРИНА: Интересно, что когда режиссеры «Новой драмы» обращаются к практикам насилия, их постановки перестают быть «жизненными» и становятся «документальными», переходят в иной регистр. То же касается кинематографических опытов этих режиссеров — например, Ивана Вырыпаева и его фильма «Кислород», построенного как собрание современных притч. В композиции № 9 из этого фильма происходит уравнивание того, что ни в какой «жизненной» логике не может быть уравнено друг с другом — насилия, терроризма, любви. И это, безусловно, вызов расхожим культурным образцам.

НЕСОВРЕМЕННАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
ЕКАТЕРИНА СУВЕРИНА: Современное кино существует, но люди, которые его смотрят, рьяно отрицают, что эти фильмы принадлежат современности. Они отказывают считать эти фильмы искусством (это очень широкий ряд фильмов — от Валерии Гай Германики или «Волчка» Василия Сигарева до нашумевшего «Левиафана» Андрея Звягинцева). Это фатальный акт признания: зритель не готов столкнуться с таким свидетельством о существующей реальности. Казалось бы, истории, показанные нам этими режиссерами весьма банальны, «жизненны», если хотите, но благодаря документальности они почему-то не вписываются в общепринятую репрезентативную рамку. Предоставляя зрителю другой способ работы с существующими реалиями (бунтующие подростки, алкоголизм, дети, воспитывающиеся без родительского внимания, «коммуникационное насилие») режиссеры ставят нас перед довольно сложным и неприятным фактом, т.е. перед собственной повседневностью, которую все так или иначе научились вытеснять. Получается, что несовременным оказывается не кино, а мы как его зрители, застрявшие между бумом шестидесятых годов и Олимпиадой-2014: между этими событиями как будто ничего не было.
КИРИЛЛ АДИБЕКОВ: Интересная постановка вопроса, но я бы попытался ее расширить: быть может, здесь стоит говорить обо всем современном кино, имеющем элементы документальности. Есть как бы современное кино и несовременный зритель. Это разделение продуктивно. Но у меня есть субъективный критерий: современно то кино, которое тебя вдохновляет тотчас же пойти и
ДЕНИС ЛАРИОНОВ: Можно сказать, что все эти процессы не в последнюю очередь связаны с изменением статуса художника, и поколенческие различия здесь выходят на передний план: для Балабанова — который, конечно, «дитя» советского периода — актуальна модернистская фигура мастера, который бесконечно оттачивает свой метод, но для Бориса Хлебникова эта фигура едва ли важна. По
КИРИЛЛ АДИБЕКОВ: Быть может, потому что они воспитаны на такой советской парадигме, которая полагает искусство родом общественной деятельности. Дошедший до широкого проката фильм гарантированно посмотрит огромное количество людей. Причиной тому были, во-первых, кинопрокатные и технические условия, а
ДЕНИС ЛАРИОНОВ: Здесь вопрос к Кириллу Адибекову, чья кинематографическая деятельность связана с подходом, скорее противоположным тому, который мы здесь до этого обсуждали. В частности, ты говоришь о тексте (прежде всего поэтическом), который задает структуру будущего фильма. Так, например, цитата из Юрия Олеши в фильме «Я НЕ ГО» повторяется до тех пор, пока не становится поэтической.
КИРИЛЛ АДИБЕКОВ: У меня нет теоретического взгляда на то, как текст становится визуальным, но я понимаю, что двигаюсь от текста к изображению. Ведь в поэзии, на мой взгляд, самое важное — это форма, и структура текста может стать структурой фильма. Я сделал фильм по мотивам повести Виктора Сосноры «Державин до Державина», где он пытается показать, чем была поэзия в XVIII веке (при абсолютистской монархии), чем она была в XIX веке и чем она стала в ХХ веке. Эту повесть он пишет в начале 1968 года и в письме Лиле Брик замечает, что под марку Державина можно много чего сказать. Я беру из этой повести структуру, которую можно назвать монтажной: короткие главы, отдельные эпизоды — текст задает структуру фильма. И это не то, что делает «новая драма», которая также движется от текста к визуальности. Важно, что текст Сосноры не драматургический, так как драматургический текст, инсценированный в кино, предполагает некую трудно уловимую подмену — он словно бы выдает себя за кинематографический, не являясь при этом таковым. У Брессона было такое афористическое замечание: есть кинематограф, говорил он, и есть кино. Кинематограф начинается там, где включаются его собственные средства.
КИРИЛЛ КОРЧАГИН: Если я правильно понимаю, речь идет о трансформации поэтического в кинематографическое. Может, нам здесь поможет понятие субъекта, помогающее понять, как мы смотрим на мир сквозь поэтический текст — смотрим в том числе и глазами кинокамеры. Это движение не только от поэзии к кино, но и от кино к поэзии — так, в кинематографе «новой волны» родственность поэтического и кинематографического зрения постоянно подчеркивалась на разных уровнях, хотя бы при помощи постоянного присутствия цитат из поэтических текстов (например, у Годара), благодаря которым фильм становится своего рода романом с ключом, разгадать который помогает поэтический текст.

РИТМ И ОБРАЗ
КИРИЛЛ АДИБЕКОВ: Но при этом поэзия в кино проникает не тогда, когда кто-то в фильме читает стихотворение. Хотя есть и такие фильмы — например, фильм Жана-Мари Штрауба «Любая революция — бросок костей» по поэме Малларме: это один из редких примеров, когда звучащий с экрана поэтический текст позволяет фильму быть поэтическим. Но и в этом фильме принципиален не сам текст, а структура поэмы: речь в фильме распределяется на разные голоса, вводится своего рода кинематографический эквивалент разных печатных шрифтов, которые использовал Малларме, возникает «полифония» го́лоса и места (всё действие происходит у Стены коммунаров, чего, разумеется, не могло быть в оригинальной поэме). Но всё же поэзия и кино чаще всего сближаются не от того, что в кино звучат стихи: поэзия может не звучать, но она может присутствовать в структуре.
КИРИЛЛ КОРЧАГИН: Но бывает так, что и звучащая речь преображает фильм. Например, в фильме Глаубера Роша «Антониу Дас Мортес» все персонажи говорят рифмованными двустишиями. Наверное, это не очень хорошие стихи, но это помещает происходящее в фильме в
КИРИЛЛ АДИБЕКОВ: Еще кинематограф, как и поэзия, в большой степени имеет дело с ритмом. Именно поэтому возможен структурный переход, причем иногда напрямую. Я сегодня, думая о нашей беседе, вспомнил об одной забавной вещи. У меня был материал, из которого я хотел сделать фильм по artist book своей хорошей подруги Юлии Спиридоновой. Я снимал какие-то мелкие вещи на айфон, но мне не нравился получающийся при этом звук. Этот материал лежал месяцев шесть-семь, и я не понимал, что мне с ним делать. И потом я подумал, а почему я отказываюсь от оригинального звука? В итоге за две недели всё сложилось просто, потому что появилась фактура внешних звуков, фактура фоновой музыки и фактура (иногда) голоса. Появилась какая-то ритмика и мне показалось, что ритм — это системообразующая для кино вещь. Я, например, не могу монтировать «голое» изображение, не могу понять, когда оно должно закончиться. Я не понимаю, должно ли оно длиться минуту или десять секунд. Когда возникает звук, возникает определенный ритм. Когда ты множество раз просмотришь эти фрагменты, ритм войдет в тебя, и тогда ты поймешь, как должно быть организовано кинематографическое движение. И это та вещь, которая приходит из поэзии, потому что я не знаю других таких основополагающих искусств, которые работают именно с ритмом. Главный эффект, который зритель уносит с собой из кинотеатра — это то, что он еще какое-то время, условно говоря, дышит в ритме того, что сейчас видел. Этот ритм дыхания может сразу исчезнуть (если фильм был плохой), но может остаться со зрителем надолго — уже без связи с породившим его фильмом. Такой эффект есть и в поэзии.
