Джеральд Коэн. История, этика и марксизм
Джеральд Коэн — политический философ и, пожалуй, самый известный апологет социализма в аналитической философии. В «Свободном марксистском издательстве» выходит первый перевод работ Коэна на русский — сборник «Совместимы ли свобода и равенство?».
Ниже представлен отрывок из текста, открывающего сборник, в котором Коэн рассказывает о своем пути от марксизма к политической философии и размышляет о сложных отношениях между марксистской традицией и этикой.
Презентация книги пройдет 14 января в 19.00 в книжном магазине РГГУ «У Кентавра».
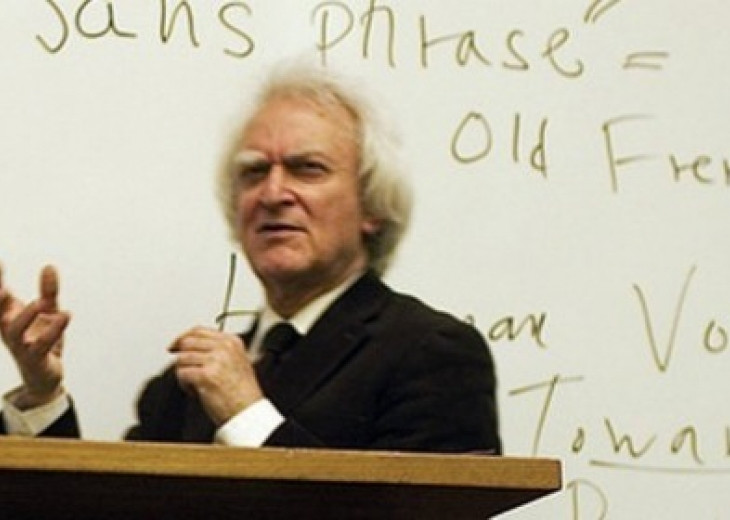
1.
Когда я был молодым лектором University College в Лондоне, я преподавал предметы, которые не были напрямую связаны с моими исследовательскими интересами. Меня наняли в 1963 году, чтобы преподавать моральную и политическую философию, но писал я о теории истории Карла Маркса, в истинность которой страстно верил и которую хотел защитить от критики, поддерживаемой многими, но представлявшейся (и представляющейся сейчас) мне неверной. Разумеется, у меня были взгляды и относительно проблем моральной и политической философии, но эти взгляды не находили воплощения в текстах. В частности, у меня были твердые убеждения касательно несправедливости неравенства и капиталистической эксплуатации, но я не считал, что могу сказать по поводу справедливости нечто, заслуживающее печати.
Мое представление о моральной и политической философии являлось и является стандартно академическим: это аисторичные дисциплины, которые используют абстрактные философские размышления, чтобы изучать характер и правильность нормативных суждений. Исторический материализм (а именно под таким именем стала известна теория истории Карла Маркса) — это, напротив, эмпирическая теория (сравнимая в своем статусе со, скажем, исторической геологией XIX века) о структуре общества и динамике истории. Хотя и не полностью бесполезная для нормативной философии, она тем не менее принципиально свободна от ценностей: можно верить в исторический материализм, жалея при этом, что судьба человечества именно такая, какой он ее описывает, а если точнее, что классовое общество, как он и предсказывает, будет преодолено бесклассовым.
Исторический материализм был в то время единственной частью марксизма, в которую я верил — я больше не верил в диалектический материализм, всеобъемлющую философию о реальности как таковой. Я часто говорил, со свойственной молодости самоуверенностью, что в той мере, в какой я марксист, я не философ, и в той мере, в какой я философ, я не марксист. В дальнейшем описании разрыва между моими философскими и марксистскими исследованиями я сначала объясню, почему мой марксизм не оказывал влияния на мою моральную и политическую философию в том ключе, в котором, как могло бы показаться многим марксистам и антимарксистам, должен был, а потом — почему я не ставил компетенцию в политической философии, которую приобретал, преподавая ее, на службу марксизму или по крайней мере социализму.
Люди, знакомые как с марксизмом, так и с англоязычной моральной философией, могли бы ожидать, что первый вступит в противоречие со второй, ведь для философии нормативные утверждения вневременно истины (или ложны), тогда как для марксизма, как предполагается, такой вещи, как нормативная истина, либо нет вообще, либо эта истина изменяется исторически вместе с экономическими условиями и требованиями. Я принимал — и принимаю до сих пор — этот совершенно аисторичный взгляд на нормативную философию, но благодаря двум причинам я мог примирить его с моим марксизмом. Во-первых, как я уже сказал, к тому моменту как я оказался в University College, я уже утратил свою веру в общую марксистскую философию (диалектический материализм), которая обычно предполагает скепсис или по крайней мере релятивизм в отношении ценности. И
Хотя я и считал, что в философском смысле марксизм мало что может сказать о справедливости, я не считал, что марксисты могут быть безразличны к ней. Напротив, я был уверен, что каждый приверженец марксизма был недоволен несправедливостью капиталистической эксплуатации и марксисты, проявлявшие незаинтересованность в справедливости, начиная с Карла Маркса, обманывали себя. Я никогда не верил, в отличие от многих заявляющих об этом марксистов, что нормативные принципы неважны для социалистического движения, что раз это движение угнетенных людей, борющихся за свое собственное освобождение, то в нем нет места для специфически морального вдохновения. Я не думал так отчасти потому, что видел невероятную бескорыстную приверженность активных коммунистов, окружавших меня в моем детстве, а отчасти по той более изощренной причине, что личный интерес любого угнетенного производителя скорее подскажет ему остаться дома, чем рисковать жизнью в революции, чей успех или неудача могут и не зависеть от его участия. Значит, революционные рабочие, а тем более буржуазные попутчики без конкретной материальной заинтересованности в социализме, обязательно должны быть вдохновлены морально. Но я думал, что, хотя исторический материализм проясняет различные исторические формы несправедливости (такие как рабство, крепостничество и состояние пролетариата) и то, как с ней бороться, ему было нечего сказать о том, чем справедливость является (вневременно). А значит, он не определял мое представление о политической философии.
Я не объединял свой марксизм со своей философией и в обратном смысле, ставя политическую философию, как я ее понимал, на службу социализму. Ведь, несмотря на то что я принимал как аксиому, что социализм предпочтительнее капитализма
2.
Я никогда не слышал аргумента против социализма, на который (как я думал) у меня не было готового ответа. Но вот однажды в 1972 году в моей комнате в University College Джерри Дворкин поколебал мою уверенность. Он начал процесс, который со временем разбудил меня от того, что было моим догматическим социалистическим сном. Он сделал это, атакуя меня с помощью изложения антисоциалистического «аргумента Уита Чемберлена», который должен был появиться в готовящейся к выпуску книге Роберта Нозика «Анархия, государство и утопия». Моей реакцией на аргумент была смесь раздражения и тревоги. Присутствовала как желанная уверенность в том, что он построен на ловком трюке, так и cмутный, затаившийся страх того, что это, возможно, не так.
После этого аргумент Нозика появился в полном виде, сначала в Philosophy and Public Affairs осенью 1973-го, а потом наконец в самой «Анархии». Теперь я был активно им увлечен. Так случилось, что в 1975- м я провел период с февраля по май в Принстоне, рядом с двумя удивительно интересными философами, а именно Томом Нагелем и Тимом Скэнлоном. Они были значительно левее Нозика, но я был обнадежен и озадачен, видя, что его аргументы их не смущают. Возможно, отчасти это было так
Я считал вызов Нозика значимым, вне зависимости от того, были ли правы люди, которых это удивляло. В 1975-м, когда я закончил книгу об историческом материализме, которую в то время писал, я решил, что посвящу себя в основном политической философии. Эта книга — одно из последствий этого поворота в увлечениях.
В Принстоне я читал лекции о Нозике и таким образом развивал идеи, которые присутствуют ниже, в первой главе этой книги. Сейчас я бы хотел перейти от достаточно локальной темы моего отхода от прошлого высокомерного отношения к вопросу обоснования социализма к более широкой теме пренебрежения вопросами нормативного обоснования в марксистской традиции. Помимо прочего, я объясню, почему те оправдания этого пренебрежения, которые существовали в прошлом, теперь недоступны.
3.
Провозглашая приверженность трезвому историческому и экономическому анализу, классический марксизм отличал себя от того, что расценивал как социалистические мечтания: он гордился тем, что считал четким фактическим характером своих основных положений. Этот аспект марксистской самоинтерпретации отражен в названии книги Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке». Социализм, однажды одухотворенный легкомысленными идеалами, должен был теперь стоять на твердом фундаменте фактов.
Героическое и, возможно, неверное, самоописание марксизма было отчасти оправданным. Ведь, отказываясь от детального описания воображаемых идеальных обществ, его основатели и последователи действительно отделяли себя от таких пионеров социализма, как Чарльз Фурье и Роберт Оуэн, и они действительно достигли существенного продвижения в реалистичном понимании того, как работает социальный порядок. Но классически предпочитаемое марксизмом самоописание, последовательное или нет, точно было отчасти бравадой. Ведь ценности равенства, сообщества и человеческой самореализации, несомненно, были центральными для марксистской структуры верований. Все классические марксисты в
Тем не менее марксисты никогда не были озабочены принципами равенства (а значит, никогда их не исследовали) или, если на то пошло, любыми другими ценностями и принципами. Вместо этого они направляли свою интеллектуальную энергию на построение твердого панциря фактов, окружающего их ценности смелыми объяснительными тезисами об истории в общем и о капитализме в частности, тезисами, которые обеспечили марксизму его повелительный авторитет в области социалистической доктрины и, более того, его моральный авторитет, так как его тяжелый интеллектуальный труд на ниве исторической и экономической теории доказывал серьезность его политической повестки.
Сегодня марксизм потерял большую часть своего панциря, своего твердого щита предполагаемых фактов. Мало кто защищает его в академии, и нет больше аппаратчиков, веривших, что они применяют его в партийный кабинетах. В той мере, в которой марксизм еще жив (можно сказать, что он в некоем виде жив в работах Джона Рёмера и Филиппа ван Пайриса), он предстает набором ценностей и институтов для реализации этих ценностей. А это значит, что он в гораздо меньшей степени, чем заявлял когда-то, далек от утопического социализма, от которого так гордо себя отделял. Его панцирь треснул и рушится, его подбрюшье обнажено.
Позвольте мне проиллюстрировать утрату марксизмом своего панциря в контексте ценности равенства, которой вдохновлена эта книга. Классические марксисты верили, что экономическое равенство было одновременно исторически неотвратимо и морально правильно. В первое они верили абсолютно сознательно. Во второе — более или менее сознательно, проявляя больше или меньше уклончивости при ответе на вопрос, верят ли они в это. Отчасти
Две якобы неукротимые исторические тенденции, работая вместе, гарантировали окончательное экономическое равенство. Одной был подъем организованного рабочего класса, чье невыгодное социальное расположение на шкале неравенства направляло его в сторону равенства. Рабочее движение должно было расти в численности и мощи до тех пор, пока у него не появится сила упразднить неравное общество, которое его взрастило. Другой тенденцией, работающей на обеспечение итогового равенства, было развитие производительных сил, продолжительное развитие способности человечества трансформировать природу ради своей пользы. Рост должен был перейти в изобилие настолько великое, что все, что нужно для богатой, полноценной жизни, может быть взято из общего запаса без ущерба для остальных. Гарантия будущего изобилия служила опровержением того, что неравенство может возродиться в новой форме после революции, мирной или кровавой, легальной или нелегальной, медленной или быстрой, которую пролетариат мог и должен был осуществить. Промежуточный период ограниченного неравенства, нечто вроде низшей стадии коммунизма, описанной Марксом в «Критике Готской программы», существовал бы, но когда «потоки социального богатства начали бы обращаться более свободно», даже это ограниченное неравенство исчезло бы, потому что все бы имели все, что могут захотеть.
История опровергла предвидения, обрисованные в предыдущем параграфе. Некоторое время пролетариат действительно становился сильнее и многочисленнее, но он никогда не стал подавляющим большинством и был в итоге ослаблен и раздроблен усиливающейся технологической изощренностью процесса капиталистического производства, который должен был продолжать увеличивать его численность и усиливать мощь. Развитие производительных сил сталкивается сегодня с недостатком ресурсов. Рост технического знания не остановился и не остановится, но производительная мощь, то есть возможность (с учетом всех факторов) превращать природу в потребительскую стоимость, не может развиваться соразмерно ему, потому что планета Земля восстает: ее ресурсы оказываются недостаточно щедрыми для того, чтобы продолжительный рост в техническом знании производил неустанное увеличение потребительской стоимости.
Не только мое знакомство с Нозиком, но и утрата уверенности в двух крупных марксистских постулатах о перспективах равенства изменила направление моего профессионального исследования. Потратив треть (надеюсь, что не больше) моей академической карьеры на исследование основания и характера двух предсказаний, описанных выше, я обнаружил себя в (вероятно) конце второй трети моей карьеры занимающимся философскими вопросами о равенстве, которые, как я раньше думал, социалистам изучать необязательно. В прошлом мне казалось, что нет нужды в том, чтобы отстаивать желательность социалистического общества. Теперь я занимаюсь мало чем, кроме этого.
