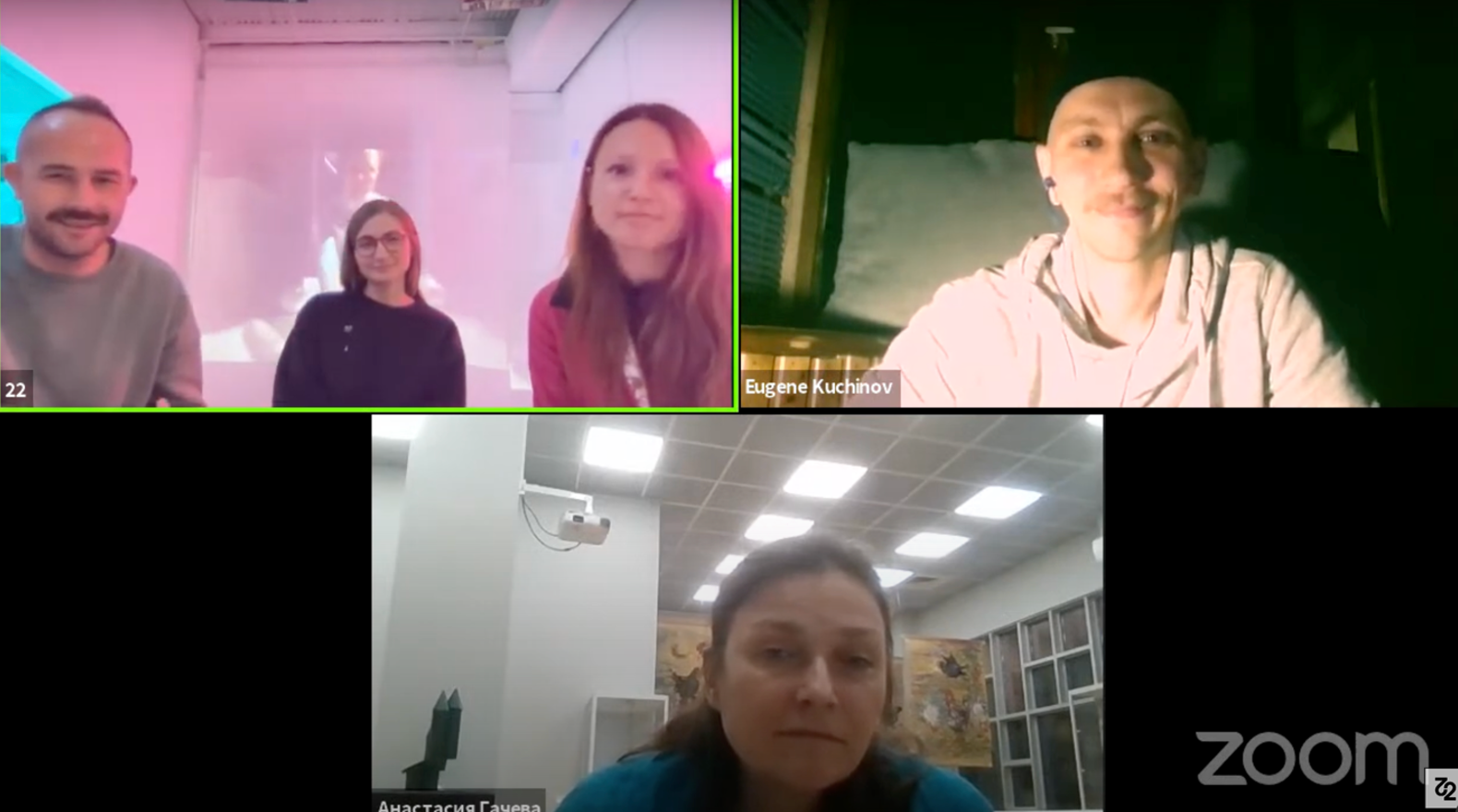Дискуссия на выставке «Где-то между компостом и космопортом»
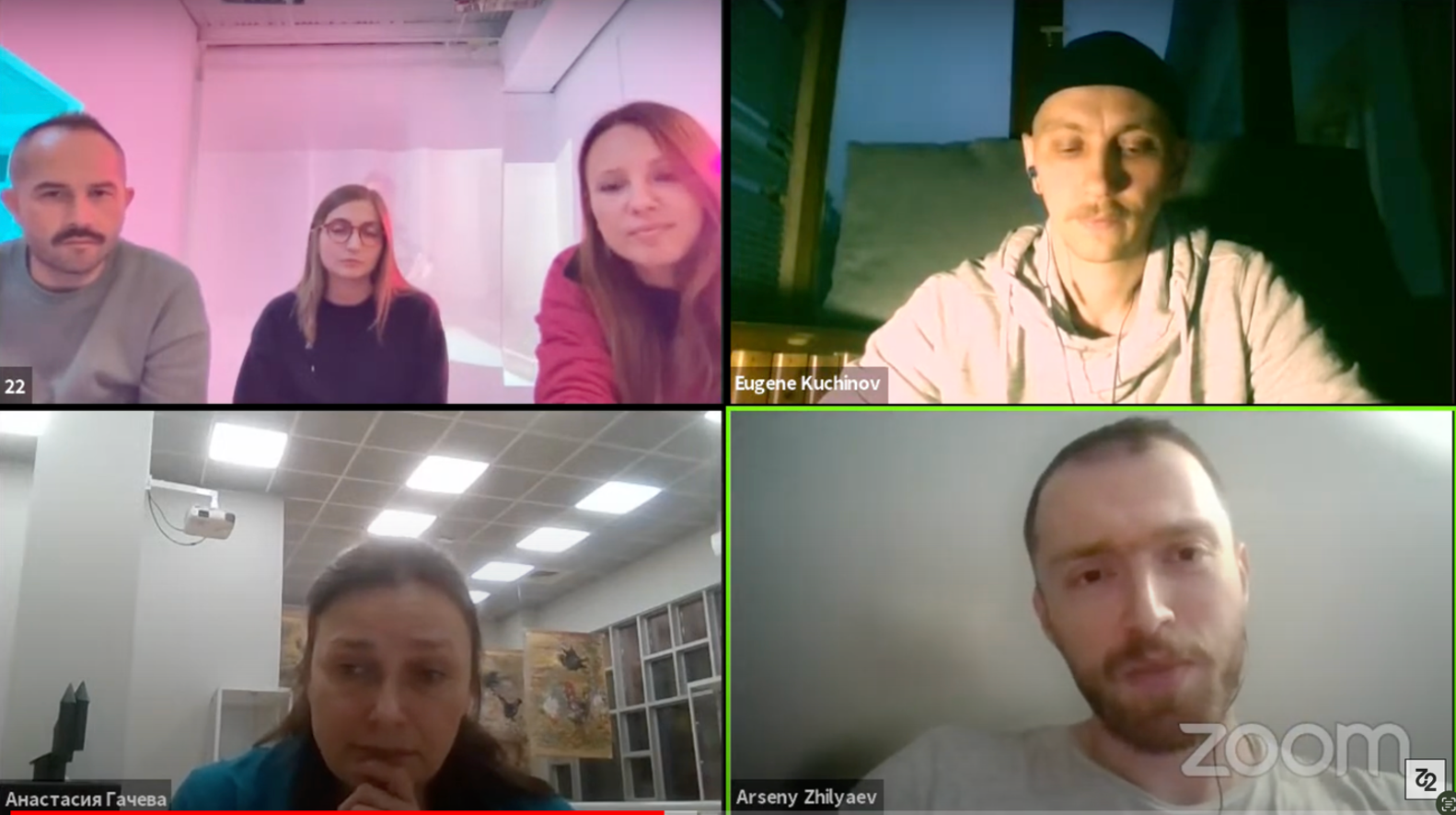
Мы позвали теоретиков и практиков современного искусства, работающих с теориями постгуманизма, космизма, биокосмизма поговорить о точках пересечения и точках напряжения этих теорий.
Наши спикеры: Екатерина Никитина — Ph.D. по литературоведению (Силезский университет), участница открытой исследовательской платформы Posthuman Studies Lab @growing_humusities_in_russia, преподаватель; Анастасия Гачева — филолог, историк русской литературы и философии, исследователь наследия философов-космистов; Арсений Жиляев — художник, в своих работах обращается к наследию советской музеологии и интерпретации музея в философии русского космизма; Евгений Кучинов — философ, историк, исследователь странных анархизмов, языков космического общения и неопознанных технических объектов.
Модерация: художница Ирина Гулякина, художник Роман Коновалов.
Расшифровка аудио в текст и редактура: Ирина Гулякина.
16 сентября 2021 года 19:00
Ирина Гулякина: Я думаю, мы начнем. Всем добрый вечер. Арсений к нам чуть-чуть попозже присоединится. Я — художница, Ирина Гулякина.
Роман Коновалов: Роман Коновалов, художник, со-участник этой выставки. Мы пригласили теоретиков и практиков на дискуссию по тем направлениям, которые нам особенно интересны сейчас и с которыми работали, в процессе производства этого художественного высказывания.
Ирина Гулякина: Наша выставка называется «Где-то между компостом и космопортом». Идея сделать этот проект началась с беседы с Ромой о точках пересечения и антагонизме двух теорий: “космизм” и “постгуманизм”, курсы по которым мы прослушали в высшей школе “Среда обучения” на факультете современного искусства.
Арсений Жиляев: Привет.
Ирина Гулякина: Привет. Здорово, что ты присоединился к беседе. Я только начала рассказывать, почему мы здесь собрались. Мы бы хотели создать не только художественное высказывание этой выставкой, а еще запустить дискурс и побеседовать с экспертами теорий, на которые мы опирались в создании этой выставки. Рома сейчас представит участников.
Роман Коновалов: С нами сегодня Екатерина Никитина, она находится в кадре с нами, руководитель факультета современного искусства высшей школы “Среда обучения”, доктор по литературоведению, участница открытой исследовательской платформы PostHuman Studies Lab. Также с нами Анастасия Гачева, филолог, историк русской литературы и философии, исследователь наследия философов-космистов, одна из создателей музея-библиотеки им. Н. Федорова № 180 г. Москвы. С нами Арсений Жиляев, судя по картинке, он в Венеции. Арсений Жиляев художник, в своих работах обращается к наследию советской музеологии и интерпретации музея философии русского космизма. И с нами Евгений Кучинов из города Калининград, историк, философ, исследователь странных анархизмов, языков космического общения и неопознанных технических объектов, исследователь анархобиокосмизма.
Ирина Гулякина: Я бы сейчас хотела задать рамку нашей встречи, чтобы мы не выходили за безумный тайминг. У нас есть четыре тезиса, которые хотелось бы обсудить, на каждый тезис примерно 20-25 минут. Мы с Ромой будем сегодня модераторами этой встречи.
Первый тезис. Возможны ли точки соприкосновения теорий русского космизма, биокосмизма и постгуманизма? Где они могут находиться по вашему мнению?
Кто-то хочет начать? Арсений?
Арсений Жиляев: Я бы, если можно, слово дал бы руководителю, своему боссу. Мне кажется, это было бы правильно. Катя?
Екатерина Никитина: Может быть стоит немного прояснить каждое направление? Что в каждой упомянутой теории в центре внимания и по каким параметрам они пересекаются.
Ирина Гулякина: Мы с Ромой как студенты-художники, прослушали теоретические курсы, узнали что-то новое и невероятно вдохновляющее, что попало в поле наших предыдущих интересов в художественной практике, — можем выразить скорее свои мысли с художественно-чувственной стороны, например этой выставкой, объектами и их взаиморасположением в этом пространстве.
Анастасия Гачева: Я бы тут применила гегелевскую триаду про тезис, антитезис, синтез. Если сюда подключить еще трансгуманизм, который оппозиционен постгуманизму. Два образа мира и человека, по большому счету диаметрально друг другу противоположные. Тансгуманизм — это такая предельная антропологизация, предельное утверждение человека, для которого мир есть некое поприще, действие, который себя активно вдвигает в мир, перестраивает свою природу и природу мира. И для которого, что очень важно, существует субъектно-объектное отношение к бытию. В центре стоит человек, права человека, острое сознание этой уникальности человека в природе, поскольку он — сознающее существо, творящее существо, существо осознающее, что оно смертно, дает ему в трансгуманизме право перестраивать мир, перестраивать свою природу и перестраивать ее принципиально на техницистских путях. Это как бы такое предельное развитие вот такой техногенной антропоцентрической цивилизации.
Постгуманизм — как антитезис трансгуманизма дает утверждение субъект-субъектного отношения к бытию, утверждение прав другого. Причем, такое ощущение полноты, сложности бытия, в котором права на жизнь, на собственную траекторию имеет каждое существо, а не только человек, что с моей точки зрения является некоторой арбузной коркой, на которой поскальзывается постгуманизм при всем привлекательном образе полноты бытия, прав всех живых и неживых существ. И рукотворные, сотворенные человеком, вещи тоже оличены. Конечно, это в некотором смысле оживающий первобытный анимизм, когда всё наделяется душой и субъектностью в бытии. Я бы назвала это тоской по царству небесному!
Как это не парадоксально, и трансгуманистическая, и постуманистическая теория — выросли в лоне европейской цивилизации, которая отсчет ведет с христианства, где задан этот образ совершенства, задан образ совершенства бытия, в котором нет смерти, нет вытеснения, нет борьбы существ, есть полнота родства, где никто никого не ест, где нет пожирания, нет борьбы, где взаимопроницаемость вещей и существ, где бесконечное творчество. Этот образ совершенного строя мира, так или иначе, ликвидируется и в той и в другой теории. Но что в христианстве важно, это то, что человек остается в центре творения, но никак самостильное, как в трансгуманизме, право имеющее, гордынное существо, а как существо любящее, отвечающее за бытие и ведущее это бытие к новому состоянию — к совершенству.
Русский космизм как раз усваивает этот христианский образ мира. Причем он его усваивает и в естественнонаучной плеяде, где Вернадский, который говорит о биосфере, новом творческом состоянии биосферы, где как раз разумная, творящая деятельность человека играет большую роль. И в христианском космизме, где не просто человек пассивно ждет, когда господь все преобразит. А он работает в истории, ведет этот мир к реальному уже совершенному состоянию. В некотором смысле в постгуманизме мы… мне так кажется, я же все-таки читатель постгуманизма, не специалист, мне немножко сложно и стыдно даже говорить в присутствии Екатерины Никитиной, которая действительно специалист. Мне кажется, что в некотором смысле мы здесь выдаем желаемое за действительное. Мы наделяем субъектностью всё сущее, мы действительно не знаем, а вдруг в этой твари есть эта воля, так думали космисты. Все-таки воля к преображению, к тому, что не просто быть плесенью или быть каким-то цветком и растением, а быть мыслящим и творящим. Не случайно Н. Заболоцкий в своей поэме «Торжество земледелия» волю твари к преображению выдвигает. Биокосмизм — это интересное течение. Я думаю, Евгений Кучинов еще о нем скажет, оно находится тоже где-то в этом векторе движения к совершенному состоянию. Биокосмизм такой футуристический, действительно дерзкий, изобретательный.
Мне кажется, что в конечном итоге космизм может быть полем некого синтеза, лучшего и в трансгуманизме, и в постгуманизме, и в биокосмизме.
Ирина Гулякина: Я сегодня слушала встречу Евгения Кучинова и Николая Смирнова в ММОМА. Вы тогда тоже рассуждали о том, почему космизм сейчас набирает популярность среди художников. Там звучала такая реплика, что может быть какая-то точка сборки в космизме. Что космос греческий и уютный соединяется с космосом современным, о котором постгуманизм говорит, и который не очень уютный или наоборот даже страшный, а космизм наоборот это все собирает.
Екатерина Никитина: Я только поясню за постгуманизм. Всегда приходится это делать, всегда крайняя остаюсь). На самом деле, здесь все действительно очень сложно и зависит от того, о каком исследователе идет речь. Мне все-таки не хочется пересказывать исследователей. Керри Вулфа, который вырастает из animal studies — исследования животных в культуре, в литературе, в искусстве. Это одна стезя. Или там обращаться сейчас к книжке 2013 года Рози Брайдотти, которая сейчас переведена на русский язык, и она пытается слово posthuman постчеловеческое, отвоевать у трансгуманистов и вернуть постчеловеческое как термин идеологически не наделенный превосходством человека или полной смертью человека: то, к чему могут апеллировать трансгуманистические идеи.
Трансгуманизмом я не занимаюсь, не углубляюсь туда, не верю в него. Считаю, что это чистый маркетинг, который связан с взглядом в будущее, о котором например говорит Рей Курцвейл, c этого можно иметь какие-то плюсы для человечества, я имею в виду в технологическом развитии. Но так или иначе полное вытеснение человека из окружающего мира, либо наоборот полное подчинение человека окружающему миру не представляется решением всех вопросов.
Вообще, я сейчас чувствую себя так, что не хочу себя ассоциировать с термином постгуманизма, потому что все гораздо сложнее. И я рассуждаю на эту тему именно в контексте российском, потому что довольно просто перекладывать то, что есть Западе, уже сложилось — ту же Брайдотти, которая 10 лет назад книжку написала. А еще в 90-е годы была книжка про то, что мы уже все постчеловеки. Поэтому очень просто пересказом заниматься. Здесь, наверное, мне интересна генеалогия, которая связана с распадом модернового субъекта, который начался постепенно, и слово постгуманизм возникло в результате этого долгого процесса. Я всегда привожу это на примере Кафки и его Грегора Замзы. Просыпается человек и не понимает, кто он, где он, почему он не может свое тело никак обрести, он теряет язык, как главный признак человеческого. Вокруг есть работающие поезда, быстро едущие, австрийские, никогда не опаздывающие, но он теперь вынужден жить как жук в этом мире и себя потерял.
Для меня есть полная связка, и я пытаюсь как раз в своих теоретических текстах прописывать связи постчеловеческого с посмертным — PostHuman Son. Фигура посмертного сына очень задевает. Это в контексте Жака Деррида — здесь можно критиковать Деррида за это. Тем не менее, это переход в такую, обычную философию, которая полна этими идеями пограничного: человек, который возникает на границах с другими нечеловеческими объектами. Или философия, которая сама по себе не интересуется человеком как таковым. Я бы, наверное, эту постчеловеческую мысль расширяла бы сюда. Я не делала бы из этого тренд, бренд, хотя в своей деятельности, в своей лаборатории, мне кажется, мы играем с этим, то есть использовать любое слово с приставкой пост сегодня не круто. Но хочется его дальше использовать в плане не то, чтобы расшатывания, но какого-то несогласия — "а почему нельзя".
Если возвращаться к каким-то общим моментам, я вижу разговор о братстве, о сестринстве, который начался до того как мы включили трансляцию. Это разговор о субъектности других существ, об отношениях человека с другими живыми и неживыми существами. Вообще, может быть, в этих концепциях просто по-разному предстает образ человека. Плюс ко всему, если перекладывать постгуманистические идеи на русскую почву, то действительно в текстах, к которым обращается Женя, к которым обращается Анастасия, здесь можно очень много сходств найти в плане дегуманизации человека или его преобразования, и то, что происходит сегодня с телом, и то, как видится будущее. Здесь, мне кажется, общая русская философия, религиозная мысль в частности с ее общечеловеком, в том числе в некоторых текстах может быть таким фундаментом, из которого эти мысли по-разному вырастают, развиваются.
Ирина Гулякина: Спасибо. Евгений, у вас есть какой-то комментарий?
Евгений Кучинов: Есть комментарий, особенно учитывая то обстоятельство, что на целом ряде встреч, посвященным космизму или биокосмизму, мне как раз приходится говорить в защиту постгуманизма. Я никогда не забуду, как на таком довольно большом семинаре, посвященном Святогору, когда пришла пора вопросов, там был молодой человек, который довольно быстро признался в том, что он трансгуманист. Он пытался выяснить, к кому ближе биокосмисты. С его точки зрения, к трансгуманистам как раз близки Федоров, Циолковский. Для меня это вопрос сравнения. Катя сейчас сказала о том, что мы сравниваем наборы — космизм, это некая условная рубрика, в которой, на мой взгляд, много чего разного происходит, очень много различных течений. Если говорить о том, чем я занимаюсь, это биокосмизм или анархобиокосмизм — это крайнее левое крыло космизма, котор делает ставку на воображение, на изобретение, на технику, на будущее в отличие от того же самого Федорова, который делает ставку на память, на организм, на религию и во многом на некий долг, мораль долга, а не на этику, эксперименты, изобретательность и так далее. То есть с одной стороны, космизм — это чрезвычайно разнородная масса самых разных идей, учений, высказываний, криков.
С другой стороны, конечно, постгуманизм — это обширная рубрика. И в этой связи мне кажется, что когда мы ищем точки соприкосновения одного с другим, мы рискуем совершить операцию, как в вирусном китайском видео, посвященном изучению английского языка про шариковую ручку и яблоко. У нас есть космизм, у нас есть постгуманизм. И бац, что-то на стыке получается. Что? Мы рискуем на стыке получить очень скучную область совпадения рубрик, совпадение тем, совпадение направлений исследований и так далее. Рассуждая о том, в чем космизм и постгуманизм могут друг с другом сочетаться и где они могут соприкасаться друг с другом, я бы как раз попытался уйти от этого совпадения или пересечения средних форм. Кажется, наиболее интересен и космизм, и постгуманизм там, где они соприкасаются или пересекаются в крайности, пересекаются в неких крайних формах. Если говорить о зоне пересечения, то можно собственно использовать латинское слово “радикс”, некий корень пересечения — это радикальность того или другого. В своей радикальности они, с одной стороны, рифмуются, действительно, они соприкасаются, но с другой стороны, между ними есть очевидный конфликт, очевидная рассогласованность, которая, я думаю, касается и естества человека. Роль человека в космизме, если говорить про биокосмизм от моего лица, с одной стороны и постгуманизме с другой стороны, то в постгуманизме человек как бы действительно изымается из центра и находит некое… Кстати, я не очень согласен с тем, что космос в постгуманизме так уж страшен. Мне кажется, что это очень тёплый, навозный, уютный космос. Особенно когда мы говорим о теории, в нем очень легко освоиться, в нем очень легко производить все риторические фигуры, внимание к нечеловеческому, отстаивание его прав. Но так или иначе, если говорить о том, что происходит с человеком, ему отводится свое место. Да, это место не в центре, это место у компоста, если хотите. Это место где-то на горизонтали мира. И возможно, это место исчезнет, возможно, человек перестанет существовать. В общем, для постгуманизма нет никакой проблемы, он к этому готов. Если вспомнить Дону Харауэй, которая говорит о том, что мы никогда и не были людьми.
Екатерина Никитина: Это она заявляет в биологическом смысле.
Евгений Кучинов: Я прекрасно понимаю, в каком смысле она говорит. Я к тому, что если это место человеческого исчезнет из мира, для космоса, вполне себе уютного космоса постгуманизма, здесь не будет никакой проблемы. Если говорить о решении космизма или биокосмизма, то это скорее решение невероятной избыточествующей щедрости, или же невоздержанной человечности. По сути, человечность не изымается из мира, а распространяется. Если опять же для меня, пересечение между постгуманизмом и современной теорией в целом, философской, например, теории, и музейным историческим экспонатом, как космизм, оно как раз заключается в этом взаимном отсвечивании. Постгуманизм позволяет посмотреть на космизм с очень интересных траекторий, обнаружив в нем эти моменты избыточествующей человечности, которая очень похожа на то, что сегодня в антропологии описывает Эдуарду Де Кастру, у которого человек не просто не изымается из мира, а оказывается, что животные это люди. Животные — это тоже человеки. Животные или камни, например — это тоже человеки. Планеты — это тоже человеки. В этой связи мы имеем две позиции — с одной стороны скромность, я бы сказал, человеческая скромность или гуманистическая скромность, а с другой стороны некая невоздержанная избыточность человеческого. Я думаю, что есть еще один важный пункт, на котором хорошо выстраиваются различия. И различия, и пересечения между космизмом и чем бы то ни было еще — это вопрос о смерти и бессмертии.
Ирина Гулякина: Этот вопрос у нас стоит отдельно.
Евгений Кучинов: Я тоже к нему еще вернусь. Но, тем не менее, у меня, когда я рассуждаю о каких-бы то ни было зонах пересечения, об этих классификаторских вопросах, когда у нас есть одна полка книг и другая полка книг, мы смотрим, какие книги там и там совпадают, какие тезисы совпадают. Мне кажется, что и в постгуманизме, и в космизме есть элементы, которые как раз некие классификаторские или духораспределенческие собственности мира подрывает. И если говорить о точке пересечения между космизмом и постгуманизмом, которые интересуют меня, то это точка радикального взаимного подрыва.
С одной стороны, постгуманизм прекрасно позволяет увидеть, что космизм или биокосмизм это не пыльный музейный экспонат, с которым, в общем-то, уже ничего нельзя поделать — его можно созерцать, можно сдувать пылинки, можно смотреть за его сохранностью, но никак нельзя применять — вот этот образ космизма, он разрушается постгуманизмом, в том числе. С другой стороны, мне кажется, что когда мы покопаемся в этом не музейном, не витринном образе космизма, не архивном образе космизма, который во многом высвечивает постгуманизм, мы обнаруживаем элементы для критики того же самого постгуманизма уже с позиции, в том числе, христианского гуманизма, о котором Анастасия Георгиевна говорила. И мне кажется, что точка пересечения — это точка такого… Знаете, я думаю к этому персонажу я может быть вернусь в двух словах. У Макса Штирнера, который на моих биокосмистов оказал довольно существенное влияние, есть замечательный тезис о взаимонеуважении. Когда он говорит о том, что «я не уважаю ни чьи труды, я не уважаю ни чьи произведения, я требую того, чтобы к моим произведениям и к моим трудам относились так же». И вот это размышление о взаимном неуважении он подытоживает словами о том, что возможно только в этом случае мы сможем действительно сговориться друг с другом. И вот это несовпадение или точки рассогласования, точки напряженных конфликтов между постгуманизмом и космизмом мне интересны. Мне кажется, что они наиболее плодотворные и для того, и для другого.
Ирина Гулякина: Спасибо большое. Арсений, выскажитесь по этому тезису?
Арсений Жиляев: Я думаю, после коллег мне нечего добавить. Я думаю, что на профессиональный вопрос должны отвечать профессионалы. Я с удовольствием послушал их.
Ирина Гулякина: Да, спасибо. Тогда переходим ко второму тезису. Как может или должно измениться человеческое тело в будущем, чтобы приобрести способность покорять далекий космос? Интересно послушать всех участников с точки зрения исследуемых ими теорий.
Екатерина Никитина: Вот это вопрос. У нас есть полу-утопический образ киборга. Он изначально задумывался как скафандр и специальная емкость, в которую поместится человек и сможет в безвоздушном космическом пространстве находиться, покорять космос. Но помним, как его переработала та же Харауэй. То есть киборг, который перестал быть неосязаемым, космическим существом, получеловеком, полумашиной, состоящим из мяса, металла и кода, а превратился в нас. В 80-е годы она пишет классический текст «манифест киборгов» из которого мы узнаем интересный тезис, что мы все уже киборги, глядя на тот милитаристский комплекс, в котором мы живем, биомедицину, которая у нас есть, рынок, ну и вообще общее состояние мира в конце 20 века. При этом человек имеет практически то же самое тело, которым он всегда обладал.
В этом контексте я просто часто еще вспоминаю концепцию протетичности человеческого тела, его протезность, то есть человек никогда не является законченным, ему всегда нужно расширение, которым является с одной стороны широко понятая культура и технологии. Стив Гленн это описывал, противопоставляя человеку, который стремится обратно в рай к никогда не существовавшему животному, к какому-то первозданному состоянию, где якобы не нужна никакая технология для того, чтобы жить. Никакого второго рождения для человека не существует. Его единственное рождение — это технологическое, культурное — вот через это расширение.
Поэтому будет ли что-то радикальное происходить с человеческим телом в будущем, у меня нет на это ответа. Я единственное могу сказать, что ярким представителем, который размышляет на тему телесных трансформаций, является Стеларк со своими безумными проектами: третьим ухом на руке, роботической рукой, который делает какие-то перформансы, когда с помощью интернета разные люди, находящиеся в разных точках мира могут управлять его телом. То есть такое тотальное расширение тела, где тело является химерой, тело это, в том числе, и протез. Но есть у этого и обратная сторона, которую как раз можно в контексте новой биоэтики рассматривать. Если тело человека и вообще человек сам по себе, как существо, никогда не существует без опоры, то есть человек без другого невозможен, то его понимание здоровья, телесности, здорового тела, тела функционирующего, невозможно без другого.
Я помню небольшой кусочек из Карен Барад про агентный материализм, где она рассуждает о том, что здоровое тело, тело здорового человека это… Что значит быть здоровым? Это значит находиться в протетичных состояниях с другим, то есть вы обладаете целостностью только благодаря другому, который оказывается продолжением вас или оказывается в каких-то отношения сосуществования с вами. Это можно перекладывать буквально, говоря об инклюзии и теле с инвалидностью, и можно это вообще очень широко понимать в контексте человеческого общества, того, как оно устроено, насколько оно потенциально имеет инклюзивный потенциал для других — для технологий, животных, космоса того же.
Что касается космоса, меня абсолютно поразил Томас Сорасено со своими проектами про воздух, про летающие шары. Потому что космос — это по факту безвоздушное пространство, где непонятно как человеку жить, и не только человеку, а вообще в целом все что к планете относится. А у него там такие идеи — подниматься выше в воздух, пересекать границы, жить в мире без границ. Ответа у меня нет. Я думаю, что тело современное ничем особо не отличается от изначального тела, которым человек обладал. Говорить о том, что мы как Наташа Вита-мор, которая разрабатывает проекты тела, как супер протеза, в который мы переселимся, или Марвин Мински, который на заре искусственного интеллекта, искусственной жизни говорил о том, что мы запишем на флешку свое сознание и это будет полная трансформация тела. Но если говорить с постгуманистической точки зрения, то это против чего отпирается постгуманизм. Постчеловечность она про то, что мы должны умирать, это нормально, но при этом мы должны пользоваться технологиями, это тоже нормально.
Ирина Гулякина: Хорошо, спасибо. Анастасия?
Анастасия Гачева: Тут довольно сложно все-таки говорить. Есть два вектора понимания того, как может все-таки преображаться человеческое тело. Потому что когда мы говорим о том, что человек какой он есть — это некая норма, но все-таки это не совсем так, потому что человечекое тело как раз тот разрыв колоссальный, который есть между духовной природой, между потенциями мечты, воображения, которая проявляется и в снах, когда мы летим, перемещаемся на огромные расстояния в нашем воображении, в искусстве, когда мы преодолеваем пределы. И вот этой нашей стреноженностью, о которой литература с древних времен и философия говорили, постоянно говорили об этом колоссальном парадоксе человека — разрывом между его духовной, душевной природой и его физическими возможностями. Если говорить о космизме, как видит космизм это будущее тело человека, будущий организм, который Федоров называл полноорганным организмом, то есть когда крылья души сделаются телесными крыльями, когда человек сможет осуществялть бесконечную мысль в неограниченных пространствах и возможностях материи. На самом деле если мы опять же обратимся к религиозному и мифологическому сознанию, то собственно эти образы совершенной телесности были даны. Они были даны в религиозном сознании, скажем, в образе Христа, который так сказать оперирует с миром без помощи техники, который может управлять миром, он разделяет хлеб, утешает бури, воскрешает умерших, исцеляет болезни, сам проходит через стены. То есть он преображается перед учениками на горе Фавор. Он такое преображенное духоносное тело, которое взаимодействует со средой, как бы перестраивает ее.
В христианстве есть потрясающий образ Троицы, где фактически некий образ целого, где эти субъектности, ипостаси троицы, не бьются друг об друга как мы. Мы выталкиваем друг друга (разные поколения), не можем занимать, как писал Владимир Соловьев, одну точку пространства. А там идея взаимопроницаемости всех вещей и существ. Вот кстати в постгуманизме интуиция — это тоска по всеединству, по братству всех существ, которое будет братством не только душевным, но и телесным, когда мы будем соединены совсем. Оно же есть. Не случайно есть эти образы прорастания растением, становление животным. Это некая гибридность не человека и техники, а человека и растения, человека и животного. Это все попытка достичь единства, родства всех тварей. И конечно, должна человеческая телесность меняться, сохраняя все-таки этот облик человека, то есть не трансформируя его, потому что не случайно человек, как Соловьев писал, самое прекрасное, самое сознательное природное существо. Но действительно будут как-то меняться его функции. Может быть, с одной стороны если вектор киборгизации, то мне он не близок, потому что это попытка вытеснения живого. Искусственное оно принципиально ограниченное от живого, биологического, которое обладает принципиальной возможностью трансформации. Поэтому другой вектор, который дает культура востока, некое управление телесностью, то, что Федоров называет психофизиологической регуляцией, это, в общем-то, мне кажется ближе.
Не случайно у космистов, был очень интересный космист Сухово-Кобылин, у которого была интуиция такого преображенного, лишенного тяжести тела духа, который будет перемещаться в пространстве, жить в разных средах. И Федоров видит такую телесность, вот такого трансформирующего себя, управляющего своими возможностями человека с нестареющим организмом. Который будет использовать еще нераскрытые механизмы, в том числе жизнь, когда жизнь будет обновляться. То есть здесь есть интуиции органического прогресса. Иначе этот организм — как он выживет в космосе, как он вообще будет взаимодействовать с другими, возможными там существами? Это будет некая тюрьма на самом деле, это будет такая резервация, которую можно создать. Создать искусственную атмосферу, где мы будем жить или выживать. Тогда человеку не захочется никуда улететь, потому что на Земле как-то свободнее, можно подышать воздухом, выйти на природу. А что ты будешь делать на этих планетах молчащих, на которых ничего. Там нужно создать атмосферу, искусственную среду. И вот как мы сидели на самоизоляции, на нее засесть. Вот я думаю, что подлинное освоение космоса оно все-таки в трансформации человеческой телесности, но и других существ тоже.
Евгений Кучинов: Я, наверное, тогда оттолкнусь в своем рассуждении от того, что говорили Катя и Анастасия Георгиевна. От гуманистического образа телесности и, с другой стороны, от космистских интуиций, в том числе христианских. Я должен сказать, что рад возникновению или подниманию вопроса техники, потому что этот вопрос для меня является существенно важным. Я им занимаюсь очень внимательно. Кстати говоря, о христианстве, о Христе, о том, что он сын плотника и сам плотничал. В этой связи табуреты, которые делал Христос, имеют для нас не меньшее значение, чем тело.
Я хотел бы опять продолжить вектор, с которого начал. Вектор некого «радикс», вектор корня или радикального корня, в котором могут соприкасаться и взаимодействовать постгуманизм и космизм. Мне кажется, что когда мы говорим про то, как изменится тело в будущем, как раз постгуманизм позволяет нам очень тонко и как-то издевательски вопрос поставить. Дело в том, что если мы говорим о постгуманизме, о постчеловеке, о некой эпохе конца или исчерпанности понятия «человек», мы должны вспомнить слова Хайдеггера, драматические и очень тревожные слова о том, что конец может быть вечным, конец может длиться не кончаясь. В этой связи, если другой ногой вставать уже на почву космизма, то космизм как раз всегда, практически во всех своих вариациях, в федоровском космизме, патриархальном космизме, памяти, морали и долга, и с другой стороны изобретательном, воображательном космизме анархистов, анархобиокосмистов: мы находим очень четкое различие между декларацией и действием, декларацией и изобретением. Мы можем по-постгуманистически сказать, что действительно человек закончился. Мы может усугубить это окончание тем, что возможно тело никак не изменится, оно будет таким застывшим в состоянии своего конца до своего исчезновения. В этой связи как раз у Анастасии Георгиевны был замечательный образ тюрьмы. Действительно, и в постгуманизме есть масса образов будущего тела, и в космизме есть масса этих образов.
Я бы хотел наметить некую общую территорию для рассуждения о том, каким будет тело в будущем, тело для космоса, тело для другой земли. Это будет тело, которое превращает все планеты в земли или это будет тело, которое подстраивается под другие планеты, меняется, перестает дышать воздухом. Какую бы мы не брали вариацию и какие бы интуиции мы не брали, мне кажется, что как раз образ тюрьмы очень легко вычитать из документов медицинского права. Подобные законы есть практически во всех юридических пакетах, во всех законах всех государств — об извлечении органов из тела, об их трансплантации. Ситуация, когда вы хороните своего родственника и выясняется, что у него не хватает органов. Каким образом это происходит? Тело умирает и коль некоторые органы еще жизнеспособны, их можно извлечь и подарить жизнь кому-то еще. Законодательство позволяет это сделать. Наиболее радикальная форма, когда из тела может быть извлечено всё: все органы, ткани и клетки при условии сохранении внешнего вида тела. И когда мы задумываемся над тем, что же это за внешний вид, который находится по ту сторону клеток, органов, тканей, то есть по ту сторону всей материальности тела, мы более или менее интуитивно начинаем понимать, схватывать, что же такое внешний облик, который в принципе мне кажется таким нормативным коконом. То, как человек выглядит в своем нормальном состоянии. В этой связи, конечно, мне кажется, что изменение человеческого тела, норма может быть какой угодно, она поменяется и тело будет находиться как раз в том самом состоянии нескончаемого конца. Говорят человек — есть киборг. Но если мы так говорим, то все животные тоже из постгуманистической перспективы, да и из космистской перспективы должны становиться киборгами, пользуясь техническими объектами, должны использовать протезы. Так или иначе мы это декларируем и в рамках некой декларации, в рамках некого нормативного телесного кокона можем наращивать это тело до каких-то допустимых размеров, допустимых мощностей, скоростей. В этой связи, конечно, мне кажется, что изменение человеческого тела в биокосмизме прорабатывается достаточно радикально, скажем так: со знанием дела и с пониманием некоторых трудностей этого вопроса — как раз трудностей, связанных с тюрьмой тела, внешним видом, нормативным коконом. В биокосмизме речь идет о становлении животным, не просто об установлении связи с животным, братских связей, а именно, скажем так, взломе этого самого нормативного кокона, взломе этой тюрьмы тела, но не в таком спиритолюстичеком смысле или в платоновском смысле, когда тело становится тюрьмой души и, собственно, от этого мяса, как трансгуманизм нам предлагает, необходимо откреститься, освободиться. Не в том смысле, что имеется в виду материальность тела, а внешний облик — это тюрьма тела, некая внешняя нормативная оболочка. Когда мы задаемся вопросом о том, как эту оболочку взломать, о том, как ее нарушить и присвоить тело себе, тогда мы начинаем меняться. Во всех прочих случаях, мне кажется, происходят нормализации приращений. Если можно представить себе ситуацию, когда в каком-нибудь диком обществе, например, очки, такой элементарный протез как очки, будет расцениваться как некий признак наличия демонической сущности, он не вписывается в норму и такой протез запрещен в некоем гипотетическом диком обществе. Мы понимаем, что в нашем обществе в этом приращении нет ничего, с одной стороны, проблематичного, а с другой стороны нет ничего взламывающего, революционного, восстающего. В этой связи, если мы говорим об изменении тела, нам придется иметь дело с взламыванием. Анастасия Георгиевна, простите, я говорю здесь про образ божие, его то мы и собираемся немножко курочить.
Анастасия Гачева: Можно я тут немножко встряну. Ну как же курочить? Во-первых, смертный наш организм — Бог же не создал его таким. Он же создал совершенное существо. Но даже если мы идем к христианству, он создал нас по образу и подобию своему. На самом деле, когда мы преображаем свой организм, мы возвращаемся к своему образу и подобию. То есть образ в нас есть, а подобия нет. Мы это подобие восстанавливаем. Нужно как минимум держать образ Христа, как для каждого человека, образ пресвятой Троицы для человечества. Тогда можно как-то выруливать. Мне кажется тут какой-то важный образ как некий маяк для истории, для человека. Знаете, что я еще не сказала. Я всегда, когда думаю над тем, как легко современная техногенная ситуация обращается с телом, хочет все заменить и пустить тело на запчасти, она одной вещи не понимает, какую понимал Федоров, о том, что тело это не только принадлежность нас с вами, тело это принадлежность всего нашего рода, всех предков, тех генетических кодов, которые в нас записали. Это очень хорошо знают те, у кого есть маленькие дети. Мы сейчас видели Арсения с замечательной коляской, у нас тоже тут малышка есть. У кого есть дети, все знают, как в процессе роста в нем, как в калейдоскопе, ты то одного увидишь родственника, то другого, то себя. Он такая копилка. То есть наше тело на самом деле соединяет нас с ушедшими и дает им новую жизнь. И поэтому когда мы так легко хотим от него отказаться, сознание пересадить, например, то тем самым мы блокируем, вообще не даем шанса ушедшим. А Федоров говорит о том, что надо вообще всех вернуть, воскресить. Мы как бы сознательно для себя и для них шанс этот убираем. Поэтому тут действительно сложно. Органика наша нас связывает не только с нашими человеческими предками, но и действительно, Федоров об этом пишет и Николай Умов, со всеми предшествующими стадиями развития эволюции. Потому что когда-то мы были на каких-то стадиях животными, простейшими. Это еще и некая потенция нашего братства со всей тварью. Так что тело — это уникальная вещь, не случайно Мандельштам говорил «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим».
Екатерина Никитина: Я могу добавить.
Арсений Жиляев: Можно я скажу, я прошу прощения. Мне вот в силу жизненных обстоятельств, интересной организации моего мира, не смогу много присутствовать. Можно я тогда выскажусь? Сейчас следующий вопрос застану и потом пойду.
Ирина Гулякина: Хорошо, конечно, Арсений.
Арсений Жиляев: Я хотел сказать, что я понимаю, что это действует некая инерция нашего языка. Я тоже так говорю, но меня немножко коробит, когда мы говорим про покорение космоса. Милитаристское немножко в этом что-то есть, потому что все, что связано с идеей фронтиерс с одной стороны, безусловно, звучит возбуждающе, маняще, но мы можем себе представить уже сегодня, какую высокую цену человек должен заплатить за эти покорения во всех смыслах. Поэтому мне хотелось бы видеть какие-то иные схемы взаимодействия с близким и далеким космосом с одной стороны. С другой стороны я вспомнил, что Женя однажды упоминал известный фрагмент про то, как Жак Лакан собирался ехать в Советский союз, когда Гагарин полетел в космос. Он заинтересовался каким образом изменится сознательное в связи с этой трансформацией — полетом в космос. Были предварительные переговоры, он встречался с А. Н. Леонтьевым, с одним из отцов теории деятельности. Лакан всех ошарашил тем, что сказал, что никто не был в космосе, нельзя назвать космонавтом никого, — всё уже и так по факту находится в космосе. И тут подключается еще масса споров по поводу того, с какого момента отсчитывают космос или не космос, и где был Гагарин. Все вот это очень человеческое, все это можно понять. Мне кажется это те вещи, которые мы можем рефлексировать.
Потом еще один сюжет, который пришел в голову связанный с полетом Гагарина. Насколько я понимаю особенно о первых опытах, о первых космонавтах, роль человека была довольно символической. Скорее человек выступал как некое «маленькое» -наконечник гигантской советской программы. Я не уверен даже, что там была возможность каким-то образом управлять процессом. А если управление было возможным, то скорее оно должно было подчиняться командам из центра. Сейчас очевидно, что всё несколько изменилось, но всё равно уровень зависимости человека, который оправляется на земную орбиту от всего человечества, от центра просто колоссальное. Поэтому этот мотив слияния человека с машиной, невозможности человека отделить себя от другого, он очень важен и понятен, он встречается в людях, ассоциируемых с космизмом. Андрей Платонов, например в базовых его поэтических рассуждениях. Мне кажется, что человеческое тело, уже начиная с модернизма, постоянно проблематизирует свои границы. Мне как художнику интересна спекуляция, говорить о том, каким образом можно трансформировать тело под космические полеты. Есть некоторые научные данные о теле в космосе — например, атрофируются мышцы определенным образом, еще какие-то телесные изменения по факту возникают. Это можно имитировать, этим можно играть. Мне кажется, в этом нет какого-то неожиданного поворота, в этом нет неизвестного. И повторюсь… Когда мы начинаем говорить о том, какие усилия нужно произвести для того, чтобы на Луне построить базу космическую, я уж не говорю про другие планеты солнечной системы, — это титанические мучения, титанические усилия. Это опять в некотором смысле работа вот этой идеи фронтиерс, что мы готовы померяться размером ракеты, скоростью, с которой она долетит до Марса и количеством людей и живых существ, которые погибнут для того, чтобы продержаться там. Мне кажется, что этот вопрос должен быть решен каким-то иным способом, при том, что я понимаю всю значимость этих символических жестов. Но мне думается, что наше взаимодействие с космическим пространством может и должно приобрести другие формы.
Есть несколько еще отсылок, коротко попробую тоже о них сказать. Примерно в то же самое время, когда летит Гагарин, Ив Кляйн начинает делать свои проекты с пустотой. Это такой прото-концептуалистский художник, все его знают с проектами синего. Вообще у Кляйна была большая философская подоплека во всех своих проектах. Он довольно под сильным влиянием находился восточной философии, у него был какой-то пояс в карате или дзюдо. Это был довольно нетипичный человек для своего времени. Понятно, что началось влияние буддистской культуры на массовую культуру. Но это было чуть позже. В общем, Ив Кляйн видел, к чему все движется. По-моему, это было как раз после полета Гагарина, начали говорить о том, что всё это вообще хорошо, но мы должны каким-то иным способом вступить во взаимодействие с космосом. У него есть ряд важных проектов, где он переопределяет понятия пространства, пустоты. В частности, его «прыжок в пустоту». На самом деле это монтаж, но он имеет символическое значение. В каком-то смысле любой полет в космос это символически смонтированный ролик. Но мне хотелось подчеркнуть, что этот полет может быть сделан совершенно иным способом. Но и, кстати, Кляйн вскорости умер, примерно в тот же год с Гагариным. У них есть некоторые параллели даже биографические. Это первый сюжет.
Второй сюжет про тела конкретно. Я для проекта «Колыбель человечества» делал зал и размещал тело для восхищения Юрия Первого, который как Евгений описывал было оболочкой похожей на Гагарина. По легенде весь проект был в таком непонятном мире, где часть идеи федоровской версии космизма реализовалась, но при этом этот мир продолжал оставаться капиталистическим миром. И посетители могли заказывать поиск своих предков, покупать специальные тела и поселять их в эти тела буквально в книжной лавке при магазине, немножко дистопический сюжет. Но Юрий Первый — это был прототип-спекуляция, поводом для которой послужил Горский. Мне кажется, что рассуждая про космистскую версию телесной трансформации, мнение Горского должно быть одним из центральных. Там если в двух словах, может быть, Анастасия поправит меня, идея была в том, чтобы схватить в телесности те функции, которые являются определяющими для существ в этом мире, а именно это функции эректического поглощения, можно так сказать. Самый чувствительный, самый естественный вид энергии у нас свет. Соответственно тело должно быть максимально синзитивно к свету, поэтому возникает идея зрачка, глаза и тело превращается в такую светочувствительную поверхность. С другой стороны есть понимание, что, как правило, зрение — это чаще некоторый пассивный процесс, а нужна активность. И вот, например, когда мы видим сны, мы активно продуцируем оптические образы. И необходимо добиться такого состояния, когда мы можем делать то же самое с нашей реальностью. Соответственно органом, который является максимально производительным в человеке — гениталии. Соответственно нужно соединить этот образ глаза, зрачка с гениталиями. Возникает странный мутант, который, с одной стороны поглощает видимое, а с другой стороны его производит. Мне кажется, это довольно сильный образ. Но там еще важен женский эротизм, такой не дискретный, что тоже для своего времени было очень сильным. Это называлось фаллическим зрачком. Насколько я это понимаю, этот фаллический зрачок был женским. Если уж рассуждать про конкретику, я бы скорее представил будущее наших тел вот таким образом, как женский фаллос, который одновременно является светочувствительным элементом, поглощающим и производящим реальность.
Анастасия Гачева: Можно два слова, я абсолютно чуть-чуть. Поскольку я абсолютно согласна с Арсением, что говоря о будущей телесности — Горского, Владимира Соловьева и Николая Федорова обойти нельзя. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что естественный способ рождения жизни имеет своей изнанкой вытеснение и смерть. Вот в порядке природы так. Собственно к чему Горский нас ведет? К тому, чтобы эрос, который действует у нас в природном рождении, чтобы он стал творящим и воскрешающим, чтобы он свою изнанку потерял. Но это все от Платона еще идет. Действительно, Горский очень интересно делает. Он как бы с одной стороны берет Фрейда, который нам все объяснил про подсознательное. Но у Фрейда что получается? Мы всё начинаем выталкивать, вытеснять, потому что мы боимся нашего подсознания, нашей изнанки, мы всё туда забиваем, загоняем. Поэтому для него искусство невротично, для Фрейда. А Горский он пытается высветлить этот эрос, сделать его реально творящим жизнь и преображающим тело человека. Поэтому вот эта формула как раз, то, о чем вы говорили, когда зрение становится воспроизведением, когда некое состояние эротического возбуждения, волнения, оно как бы весь организм охватывает, как в женском организме больше, чем в мужском. Он, конечно, имеет в виду возможности этой эротической энергетики, она может быть творящей, действующей непосредственно на среду. Он всегда говорил, что орудие — это все наши опоры. И не случайно все эти орудия такие немножко фаллоцентрические, в том числе и ракеты наши, которыми мы в космос проникаем. А вот эта вот эротическая энергетика она создает вокруг организма какое-то облако, она распространяет его в среду, оно нашу телесную границу чуть-чуть смягчает. То есть это интуиция какой-то будущей неслиянности и нераздельности. Поэтому он говорит об управлении вот этими эротическими энергиями. Как раз в книжке «Тайна царствия небесного» Светланы Семеновой есть целая глава про метаморфозу пола, где она пытается в духе космизма Горского, Федорова, Платона, восточных практик, эти идеи собрать. Будущее тело — это еще и тело, в котором действительно животворящая энергия рационально идет на преображение нашего тела, и Горский даже видел какой-то воскрешающий эрос, который будет из себя рождать наших ушедших. Мне кажется, что вообще какой-то художественный проект с Горским связанный, мог бы быть очень интересным. Тут важно посмотреть еще его письма, его работы в лагере написанные. У него была целая серия заметок, связанных с этой идеей «Огромного очерка». Мы все читаем «Огромный очерк», а это только первая часть, он ее продолжал.
Ирина Гулякина: Очень интересные образы, спасибо. Перейдем к следующему вопросу. С такого жизнеутверждающего к противоположному, к смерти. До 20 века смерть воспринималась как переход из одного мира в другой практически во всех культурах. Постгуманистическая оптика не говорит о смерти, воспринимая ее как переход материи из одного состояния в другое. Мы все компост. Анархобиокосмизм, космизм стремится к бессмертию. Где же другие миры? Есть ли они? Как в них можно попасть, если не путем перехода, то есть смерти? Понятие души в озвученных философиях.
Арсений Жиляев: Можно я отвечу и пойду к своим телам близким. Я отвечу как художник и как человек. Коллеги могут более теоретически взвешенный комментарий дать. Мне вот в последнее время кажется любопытным смотреть на смерть, и вообще на всякую конечность, скорее также, как мы смотрим на художественные формы. В силу специфики заложенных в нас программ, культуры, наша конечность воспринимается как проблема. Видимо, потому что мы должны нести дальше свои гены, продолжать жизнь. Любопытно, что в отношении пространства мы не испытываем таких чувств. Это пока несколько отличается по уровню эмоционального накала. Например, конечность архитектурной формы не вызывает в нас таких острых, трагических переживаний, как конечность во времени. Хотя по идее все это просто разные стороны одной и той же монеты. Более того время может быть воспринято по другому, — я так понимаю, что одна из версий внутри научной картины мира говорит о том, что времени нет, по крайней мере, в том виде, в каком мы его интерпретируем. Хотя есть закон термодинамики, говорящий о том, что прошлое нам кажется более структурированным, чем будущее. Может быть, это тоже является спецификой нас в качестве наблюдателей. И мне последнее время хочется размышлять в искусстве над схемами мира, где время перестает играть существенную роль. Перестает, по крайней мере, в том виде, в котором оно представлено у нас, как некоторая бесконечная трагедия. В этом смысле можно упомянуть мой последний проект, «Будни распознавателя образов» в ММОМА, который сильно связан с Муравьевым и с идеей снятия времени. Мне, конечно же, представляется перспективным двигаться в эту сторону, потому что из такой перспективы конечность не кажется столь трагичной. Наоборот, может быть красиво. Формы ограниченности могут придавать интенсивность всему остальному. Я уверен, что с философской точки зрения можно найти массу тому обоснований. Я хочу каким-то образом так смотреть на вещи, хотя, безусловно, продолжаю оставаться человеком.
Хотелось бы представить мир, где смерти не будет в принципе. Но, наверное, это будут иные способы взаимодействия с тем, что мы называем время и пространство. И такой вариант существования мне вполне нравится. Я так понимаю, что в вопросе есть какой-то запрос на потусторонний разрыв, на радикальную знаковость. Он очень понятен, но и, конечно, можно сказать, что разрыв такой возникает благодаря смерти. Отчасти это так. Но опять же мне кажется, что какой-то материалистический взгляд на вещи он должен исключать этот страх и тревогу. Есть разные научные взгляды на то, каким образом существует наша вселенная. Концепций много: множество миров, мультиверсы, где существуют практически бесконечное количество вселенных, в которых есть своя эволюция, описываемая явно не тем временем, которое мы привыкли воспринимать здесь в нашей версии реальности. Мне кажется, что такого рода горизонты выглядят более тактильными, нежели чем надежда на то, что смерть избавит нас от всех проблем и страданий. Потусторонний мир откроет дверь в какое-то иное измерение.
Ирина Гулякина: Кто хочет продолжить говорить на эту тему? Про смерть, другие миры и как в них можно попасть, каким путем перехода.
Анастасия Гачева: Мне интересно сначала Евгения послушать.
Евгений Кучинов: Хорошо, давайте. Коль у нас избыточное присутствие космизма и космистов сегодня. Мне кажется, что нужно попробовать вернуться к некоему такому двойному размышлению на стыках, на пересечениях. В этой связи, опять же вот в связи с Горским, упомянутый Фрейд, который говорит о влечении к смерти. Это такая важная оттеняющая фигура, это важный оттеняющий концепт для того, чтобы говорить о том, о чем собственно речь идет, о космизме вообще и об анархобиокосмизме, в частности. Анархобиокосмисты говорят об инстинкте бессмертия, меня завораживает совершенно это словосочетание и рассуждения, образы, которые за ним стоят. Дело в том, что инстинкт бессмертия не предполагает отсутствия смерти. Образ некоего кристаллического мира, который описал Арсений, он, в общем, чужд биокосмистам. Если мы обратимся к утопиям братьев Гординых в Стране Анархии, в которых появляется сюжет отсутствия смерти в мире. Там говорится, что мы пока не смогли изъять смерть из мира, мы пока не смогли ее победить, но, тем не менее, кажется, что в отсутствии смерти было бы что-то негативное, было бы что-то такое обедняющее мир. И если бы смерти не было, говорит человек-проводник из Страны Анархии, то ее следовало бы изобрести. То есть инстинкт бессмертия, о котором говорят биокосмисты или пананархисты, он заключается в изобретении смерти. Инстинкт бессмертия — это изобретение смерти. Если мы вспомним Фрейда, понятное дело, что концепт влечения к смерти очень сложен, и, по большому счету, он не имеет ничего общего с самоубийством, к некой такой диструктивной тяге. Это просто на просто повторение, из которого и состоит жизнь. Это некая дуга между рождением и смертью, которая неотличима от жизни. В свою очередь инстинкт бессмертия — это очень простая вещь, которая опять же легко получает постгуманистическое расширение. Я имею в виду, что инстинкт бессмертия он свойственен жизни как таковой. То есть инстинкт бессмертия это не сугубо человеческая тяга к вечности, нескончаемости, к некой такой кристаллической, непоколебимой, близкой к пространству форме существования.
В действительности инстинкт бессмертия всю жизнь охватывает. Все, кто живет, не хотят умирать. В этом суть самой жизни. В этой связи ничего позитивного в смерти нет. У Кати была эта фраза, слова о том, что мы умираем, и это в принципе нормально. По сути это и есть тот комфорт, та зона комфорта такого постгуманизма, — типа нормально, умираем, окей. Но в действительности никто так не живет. В действительности подобного рода утверждение не отличимо от самоубийства. Каждое действие, которое мы совершаем в своей повседневной жизни, например, переходя оживленную автостраду, мы не живем таким образом, что смерть для нас безразлична. Мы все-таки не бросаемся под машины, не выходим из своей квартиры через окно, хотя могли бы. Почему бы и нет, если в принципе между жизнью и смертью такая, довольно проницаемая граница. Что касается изобретения смерти, мне кажется, что у меня нет концептуального ответа на вопрос, что это такое и как с этим работать, например, в художественных практиках или в теоретических философских текстах. Мне кажется, что это довольно загадочная вещь. Но, тем не менее, в отличие от такого классического космизма, мы находим некие образы изобретенной смерти и значение изобретения смерти для биокосмизма. Это значение, между прочим, оно хорошо рифмуется с тем, что сегодня делает спекулятивный реализм, который словами Квентина Мейясу состоит в том, чтобы оказаться в царстве мертвых и вернуться обратно. Побыть немножко мертвым и вернуться из царства мертвых для того, чтобы рассказать о том, каково там, это и есть сама суть изобретения смерти. Если мы прочитаем «Аргонавты вселенной» Ярославского, там этот образ довольно наглядно представлен в виде кладбища бессмертных. Тут нужно подчеркнуть, бессмертные, которые умерли, которые некоторое время пребывают в состоянии мертвых тел.
Свободное отношение к смерти или изобретение смерти предполагает, что умирая, вы можете рассчитывать на воскрешение, на то, что вы вернетесь обратно и рассказать о том, какого это быть мертвым. Опять же если возвращаться к философской траектории, философско-теоретической перспективе, в которой мы можем об этом говорить, здесь можно подтянуть много всяких линий, того же самого Штирнера, которого я анонсировал, который действительно рассуждает, вдохновляя в последствии и биокосмистов тоже, о том, что значит присвоить смерть, что значит быть самим собой. Быть самим собой значит быть хозяином, в том числе, своей смерти. Быть хозяином своей смерти в этой перспективе означает, скажем так, жить с некоторым таким бесстрашием, но не глупостью бессмертного, с некой теоретической спекулятивной зоркостью того, что можно побывать в царстве мертвых и вернуться обратно.
Завершая, я хотел бы вернуться к «курочанью» образа Божьего. Это было специально сказано грубовато, я ничего плохого здесь не подразумевал. Отталкиваясь от того, что говорил Арсений в связи с Лаканом и вопросом о том, где находится космос, таким различием, которое часто любит озвучивать в день космонавтики Роман Михайлов в своих текстах: различие между летчиками и космонавтами: «Есть летчики, которые просто перемещаются в пространстве, есть космонавты, которые действительно переходят границы, те самые франтиры в космосе.» Вот, мне кажется, что это самое изобретение смерти и это возвращение из мира мертвых, оно неплохо дается в практиках наподобие практик шаманов. Практики шаманов, которые перемещаются из одного мира в другой. Опять же по-федоровски можно сказать, что все это воображение, все это в воображаемом решении, но не в дельном или практическом решении. Тем не менее, мне кажется, что подобного рода практики дают намек, в каком направлении мы можем мыслить, говоря об изобретении смерти. Таковы мои соображения.
Ирина Гулякина: Спасибо, очень интересно.
Евгений Кучинов: Если есть от чего оттолкнуться, Анастасия Георгиевна, вот мои плечи, отталкивайтесь.
Анастасия Гачева: Спасибо, Евгений. На самом деле мне очень было интересно послушать как раз про биокосмистов, потому что именно этот ваш тезис очень важный, который мне тоже объясняет, почему они, исходя из идей Федорова, в то же время с ним полемизируют. Когда вы сказали о том, что для них смерть обладает некой ценностью. Космизм разный, там есть Циолковский, для которого и смерти нет, космисты по-разному к смерти относятся. А вот федоровская линия в космизме принципиально не считает смерть благом. Если говорить о том, что из себя представляет абсолютное зло, для Федорова — это смерть. Поэтому в принципе смерть не может обладать для него ценностью. То есть когда мы наделяем смерть ценностью, а мы это делаем, то это на самом деле некая попытка не оказаться в ситуации полной бессмыслицы, потому что это самое страшное для человека, когда он стоит перед чем-то, что абсолютно противно его природе. С точки зрения Федорова, смерть — она противна природе человека, но что самое главное, для него смерть противна природе бытия, хотя вроде бытие стоит, в том числе, на этом процессе обновления, смены поколений, вытеснения, одно идет в пищу другому. Но это способ функционирования бытия, который должен быть преодолен, бытие должно выйти к какому-то другому типу существования.утверждаем Понятно, что русские космисты исходят из христианской картины мира. Никуда мы от этого не денемся — просто мы тогда не поймем их логики. Чтобы понимать их логику, нужно понимать, что все-таки Бог, который сотворил этот мир бессмертен, и Бог сам в себе несет этот образ, абсолютно не ветшающей, самообновляющейся жизни. И собственно к этому образу самообновляющейся жизни, которая развивается, но изнанкой развития не является смерть — должно взойти всё бытие. Вот это для космистов задание. Почему еще они так против смерти? Потому что понятие личности, которое сформировано в человеке и которым космисты наделяли, в том числе, и другие живые существа, обладает тоской смертности. Вот эта тоска тварей, смертная тоска тварей, которая есть — мы это все чувствуем. Конечно, может быть, животное не осознает, что оно смертно, но и оно мучается, в нем есть эта тоска смертности. Кстати, и постгуманистический дискурс, который так противится тому, что человек так легко использует животные и растения, расчленяя их, препарируя, умертвляя ради своих нужд, как бы говорит о правах всего живого. Это тоже попытка утверждения жизни, борьбы со смертью. То есть мы утверждаем здесь сострадание наше к живому.
И, конечно, еще одна вещь, которая мне кажется абсолютно антиморталистична — это любовь, которая есть в человеке, которая есть в живом мире, в которой есть абсолютная ценность. Если мы поймем, что такое любовь, а мы действительно знаем в себе это чувство. Когда у нас есть чувство любви к другому человеку или к другому существу, будь то цветок или животное, или что-то еще, самое страшное, что оно уничтожается, оно перестает быть. И это вызывает в нас протест, это вызывает в нас несмиренность, это вызывает в нас стремление удержать, увековечить, сохранить, преобразить, воскресить. То есть вот это само качество любви совершенно уникально, которое есть в человеке и которое в зачаточном состоянии есть и в природе. И в конечном итоге все мироздание должно к нему прийти, с точки зрения космистов. Я разделяю их взгляды к этому состоянию, бытию по типу святой Троицы, неслиянности и нераздельности. Действительно будут права всех субъектов, всех существ. Но это будет какая-то полнота, не умаляющая и не вытесняющая друг друга. Это первая вещь.
И вторая вещь по поводу потустороннего. Мы действительно очень уютно устроились в этом дуализме, в котором есть материально-телесный мир, который приходящий, подвержен законам времени, и есть некое такое спиритуальное бытие, в котором вечность, в которое мы все переходим после жизни и нам хорошо. Но вот на самом деле есть в философии 20 века, и русский космизм много поработал в этом направлении, есть понятие идеал-реализма, когда все-таки материя не может быть оторвана и считаться чем-то вторичным. Это как бы форма бытия духа и дух оформляет материю. И в этом смысле человек духотелесное существо. То есть, поэтому дух и материя должны вместе совершенствоваться. Об этом Пьер Де Шарден пишет в «Феномене человека». Дух, если он хочет возрастать, он должен возводить за собой материю, он должен ее тащить за собой, вести. Тащить, может быть, плохое слово, как Арсений говорил на слово «покорять». Это не логика и не дискурс космизма — покорять. Здесь идея преображения, преображение — это не покорение. Еще воскрешение, конечно — это не только бессмертие. Вот когда Ирина говорила, что в космизме ценность бессмертия. В том-то и дело, что не только бессмертия, а именно полнота бессмертия, которая возможна только тогда, когда смерть будет отвержена во всем бытии, когда все жившие вернутся духотелесными, преображенными по природе.
Мы совсем Екатерину не слышали.
Екатерина Никитина: Я сейчас скажу. Я слушаю вас и понимаю, что складывается супер позитивный образ постгуманистической мысли, где все будут любить друг друга, брататься с животными. На самом деле все как раз-таки не так весело, как кажется.
Анастасия Гачева: Ну конечно, в порядке природы так и есть сейчас.
Екатерина Никитина: Не о природе даже речь, а в целом. О той природокультуре, как ее описывает Харауэй. Вопросы смерти для постгуманистического дискурса занимают, наверное, ключевую роль. Тут можно выделить два направления важных, которые можно осветить первыми. Это очень часто критикуемый троп во всех постгуманистических текстах, — мы их так маркируем, а на самом деле в текстах, которые исследуют границы человеческого, животного, машинного — вот так скорее, или пытаются ответить на вопрос, кто такой человек, что значит быть человеком сегодня в разных смыслах. В этих текстах очень часто критикуется хайдеггеровская позиция по отношению к животному и отношение разных существ к смерти. Вот то, что только человек обладает такой привилегией, что он может по-настоящему умереть, потому что он смерть осознает. Животное только приближается к смерти, то есть оно ее инстинктивно может почувствовать, но никогда по-настоящему не умирает, потому что животное замкнуто в неправильно понятом «Умвельте», который был Якобом фон Икскюлем описан, — том самом окружающем мире с замкнутостью инстинктов, и не может из этого кокона выйти. В каком-то смысле такая механическая вещь, которая там внутри — не осознает, не взрывает кокона смерти, как раз и является взрывной историей в этом смысле. Здесь, конечно же, то, о чем говорили вы, Анастасия, о том, что животные могут страдать, да, и это страдание — это то, что объединяет человека и животного. Это молчаливое страдание, которое описывает Андрей Платонов. Его герой Чагатаев встречает в пустыне верблюда, который не мог плакать, он не обладал этой способностью выражения эмоций, но это чувство ему присуще.
В постгуманистическом дискурсе смерть — это в каком-то смысле инструментальный вопрос: ты можешь умирать или не можешь, ты можешь технику использовать или не можешь, можешь быть разумным или нет. Так вот с оной стороны Джереми Бентам пытается снять эту оппозицию, говоря о том, что давайте остановимся на том, что страданиями все объединяемся. С другой стороны тот же Деррида, который говорит о невозможной возможности, а не о способной способности, немощности, которую испытывают вместе человек и животное: испытывают какие-то физические страдания, эмоциональные страдания. Если мы пойдем дальше в animal studies, которая исследует именно поведение животных, подключим сюда зоопсихологию, жестокое обращение с животными. Мы будем оперировать к тому, что есть такой раздел — понимание психологического насилия над животным, есть эта эмоциональная составляющая. Конечно, специалист не использует слово рефлексия, но в разговоре о животных вообще избегаются всевозможные сильные заявления о том, что они что-то осознают и чувствуют, но, тем не менее, по касательной об этом говорится.
Если говорить о таком измерении, которое как раз-таки внутри постгуманитаристики развивается сейчас — исследование вымирания. Это связано опять-таки с экологическим состоянием, влиянием человека на другие виды, — как ускоряется вымирание тех или иных видов, обычно локальных видов. Антропологи вместе с зоологами прибегают к исследованию различных ритуалов животных, связанных с переживанием, в том числе, смерти. У всех воронов есть ритуал оплакивания. У слонов есть ритуал. Опять-таки, когда ученые говорят ритуал, это в больших кавычках, там куча оговорок, что мы наблюдали долго и кажется, они возможно что-то там скорбят себе или возможно они понимают, что кто-то умер. Слоны прощаются с умершими. У них есть целый ритуал, как они отпускают умершее животное. В то же время смерть сама по себе в измерении вымирания и глобального экологического кризиса перестает быть только твоим личным делом, то есть чисто человеческим делом. Современная смерть очень сильно отличается от привычной натуральной смерти. Когда развивалась индустриальная революция люди стали умирать, сталкиваясь с нечеловеческими видами: их сбивали поезда, повозки, они умирали на фабриках; сейчас в большом количестве это касается животных, в том числе, которые давно уже не умирают своей обычной смертью. Рыбы, птицы, наедающиеся пластика, или попадающие в турбину самолёта, и многие другие разные вещи. Плюс человек, как сильный фактор, который ускоряет смерть и дает разные новые виды смерти тем же самым животным. Вот в этой парадигме смерть уже перестает быть только твоим человеческим делом. Перед лицом общей надвигающейся катастрофы, назовем ее как все — экологическая, само это измерение смерти как будто бы требует переосмысления. Подключение в это измерение животного уже не кажется таким необычным делом. Говорить о том, что они в этом не участвуют, говорить, что они никогда не умирают, это, наверное странно. Опять-таки цитируя Харауэй, обращаясь к религиозным мотивам, которые мы тут обсуждаем, мы никогда не жили в раю, животные никогда не выходили из рая. То есть, никогда там не были. То есть это прекраснодушное отношение к другому — его не было. Они всегда, как мы, населяли одну планету, разделяли с нами одни и те же проблемы, все экологические и технологические вопросы тоже их касались, преобразовывали их жизнь.
Еще в контексте смерти мне хотелось сделать такое замечание, что здесь, наверное, в постгуманистической мысли, если мы ее будем строить на текстах, в частности, Деррида, большой вопрос занимает наследие. Я упоминала посмертного наследника, который приходит после смерти отца. Этот вопрос о наследовании, о том, какой мир наследует человек и другие животные, в том числе, в режиме глобального вымирания, о том, что наследование само по себе является не только наследованием генетического материала, но и культур, которые уходят или преобразуются, в том числе, лесов, видов других существ, которые тоже меняются. Смерть очень сильно связана с вопросом болезни. Потому что я сейчас провожу мостик к предыдущему вопросу про телесность и Христа, о котором говорилось много. У Линн Рендольф, американской художницы, есть картина. Она называется «Лаборатория или страсть онкомыши», которая апеллирует к страсти Христа, к страстям Христовым. Там в центре лаборатории размещена мышь, у которой женская грудь и у нее терновый венок. Это онкомышь, это трансгенное животное, выведенное в лабораторных условиях для изучения рака и для борьбы с раком, в частности с раком молочной железы. Это животное, которое никакого отношения не имеет к природе, которую мы часто бережём, которая всегда есть, никогда не умирает, которая всегда прекрасная и к которой мы однажды можем вернуться, с которой должны брать пример или подчинять, что-то с ней делать. А с другой стороны, это очень разрушает, в том числе, телесность человека, когда здесь здоровье опять-таки или целостность человеческого тела зависит от другого существа, которое участвует непосредственно в построении тела человека и участвует, в том числе, в борьбе за выживание того же человека. Также я не могу не вспомнить здесь Патришу Пиччинини, — у нее есть проекты, которые вы могли наблюдать в музее «Гараж», если там были. У нее есть проект, который называется «Маленькие помощники Земли», он связан с глобальным вымираем разных существ. Она создала универсальный организм по вынашиванию любых существ, которые нуждаются в поддержке численности. Эту скульптуру сложно объяснить. Это такое квирное тело, которое и женское и не женское, и животное, и человеческое. И это, по сути, много маток, куда может помещаться различное количество эмбрионов от разных видов. Это существо, которое например вынашивает бобра, который в одних из регионов Америки находится под угрозой вымирания, и это существо располагается с маленьким мальчиком. Это существо, которое приходит к маленькому мальчику, который спит, обнимает его. Смерть, вымирание, в том числе и наследование, которое тоже здесь проявляется, новый тип наследования, в том числе, генного наследования, связывается с общим вопросом о всесильности человека. Или может быть это будет вынужденный шаг, однажды пойти на сделку с таким существом и со всеми этими генными модификациями, чтобы продолжиться. Ведь опять-таки вот эта вся постгуманистическая мысль говорит, как мне кажется, о вынужденных мерах, не о том, что мы так хотим потерять облик человека и стать ближе к растениям или к животным.
Мне кажется, что постгуманизм — это про попытку нахождения компромисса для того, чтобы продолжиться. Вас не съели или съели, но частично. Но опять-таки у Харауэй есть в книжке образ, который она описывает в истории Камиллы, он также ярко проиллюстрирован в фильме «Истории для выживания Земли» Фабрицио Террановы. Речь идет как раз о постбудущем, постчеловеческом будущем, людей как таковых нет или они есть, но в малом количестве, есть в малом количестве другие различные существа. И человек, чтобы продолжиться и чтобы помочь продолжиться органическому разнообразию, рядом с которым он живет, он должен входить в трансгенный альянс с другими существами. И там описывается такое племя, которое решает, что семья — это больше не про мужчину и женщину, что семья может состоять из трех и более человек, и решение о рождении ребенка принимает община, так как проблема перенаселения стоит очень остро. И человек в определённом возрасте, в пубертате, по-моему, выбирает, кто будет его симбионтом. И вот там одна девочка решает, что симбионтом будет бабочка-монарх, и она пересаживает усики бабочки-монарха себе в виде бороды. Для того, чтобы с одной стороны эти гены тоже стали ее частью и они не исчезли, гены бабочки-монарха, которые тоже вымирают, и чтобы она таким образом стала ближе к миру бабочки-монарха. Вот что это? Хотели бы вы иметь эту бороду? Что должно сподвигнуть человека в нормальном обычном состоянии в эту сторону? Наверное, какая-то сильная нужда продолжиться. Я не думаю, что это чистый альтруизм. Здесь всегда Харауэй говорит о сосуществовании, которое очень сложное. Оно не про любовь в чистом смысле, не про полное принятие, а про компромиссы, про нахождение новых и новых черт, которые нас отличают друг от друга. Мы не хотим стать животными, или как животные. Возможно, мы хотим остаться людьми, но при этом находя в себе животные черты. Поэтому смерть человеческого субъекта, смерть человеческого тела, это все очень важная часть этого дискурса. Поэтому мне кажется, Харауэй делает этот дискурс не настолько радужным, насколько могло бы нам показаться. Потому что все плохо, мы умираем, мы вымираем. Биомедицина, рынок, который называется биогенетическим капитализмом, который сам по себе дегуманизирует и людей, и животных, потому что там используются на равных и человеческие тела, органы, и также животные. Мы уже находимся в этой постчеловеческой кондиции. Мы должны из этой кондиции искать путь, как-то выходить. Но здесь не про бессмертие, здесь про то, как не умереть быстро, наверное. Или как умирать правильно, чтобы после тебя что-то еще могло дальше жить.
Анастасия Гачева: У нас была фантастика ближнего прицела, которая касалась того, как выжить человечеству здесь и сейчас. А все вот эти вот мечты, — у Ефремова, у других, о космическом будущем, — они казались ненужными в современности, потому что были какие-то другие цели. Мне на самом деле кажется, что-то, о чем вы говорили вроде бы это с одной стороны понятно и вроде бы даже правильно для того состояния мира, в котором мир существует, то есть по принципу избрания наименьшего зла. То о чем вы говорите, это как бы избрание наименьшего зла. Но это такой отрицательный путь. На самом деле человечество может идти положительным путем. И для космистов оно должно идти постепенно. Понятно, что сразу оно не может перепрыгнуть, вообще через стадии перепрыгивать в принципе невозможно. Когда-то человечество совершенно варварски обращалось и друг с другом, и с животными. Все-таки гуманистическая культура постепенно как-то развивается в мире. Медленно, да. Она вступает в противоречие с капиталистической идеей, с такой глубинной эгоистической идеей. Безусловно если человечество будет ставить какие-то задачи, может быть оно преодолеет капитализм. Капитализм — это эгоизм, когда ты средства не выбираешь. А когда оно поставит вопрос о соотношениях цели и средств и постепенно начнет выскребываться из этой ситуации, я думаю, что мы придем к каким-то новым технологиям, которые будут более сберегающими по отношению к человеку, по отношению к животным. Потом Вернадский говорил об идее автотрофности человечества. Путь, который он видел сначала через искусственный синтез пищи, потом как-то дальше, потом все-таки через урегуляцию своего организма. Ирина, мне очень понравился ваш проект про автотрофность.
Ирина Гулякина: Он здесь продолжается, на этой выставке.
Анастасия Гачева: У Ирины была «автотрофность меня», когда она пять дней не ела и не пила и наблюдала, что происходит с ее телесностью. Поэтому я думаю, что потихонечку мы будем к этому двигаться. А если мы будем говорить, что да, вот это естественно и нам надо только как-то попытаться в ситуации, что мы тонем, где-то что-то попытаться спасти или не очень страшно утонуть и умереть. То конечно это будет такой минусовой вариант. Мне кажется, что человечество может ставить какой-то целостный идеал, выдвигать его. Вот космисты про это. Он кажется утопическим, но на самом деле только он и выводит вообще все-таки на какую-то новую ступень. А как только мы начинаем в этой фантастике ближнего прицела жить, мы на самом деле никуда не двигаемся, мы буксуем и абсолютно будем порабощены капиталистической цивилизацией, которая как раз не очень удобная фантастика ближнего прицела. С ней не очень хорошо, с таким человеком не очень хорошо. Поэтому я думаю, что здесь нужно какое-то дерзновение, такое какое-то почти новозаветное дерзновение. Понимаете, как был этот мир, который как-то устраивался и все было хорошо, пришел Христос, и абсолютно поменялись все параметры и взгляды на человека, и на жизнь, и на будущее. Мне кажется, что здесь сейчас должно что-то такого рода происходить.
Екатерина Никитина: В зоологии Христос входит в животное. Это дегуманизация, та, к которой он приходит. Это про страдание, это связь с козлом отпущения, это схождение в животное.
Анастасия Гачева: Я согласна. Но для чего это схождение? Чтобы это животное вывести к какому-то новому состоянию. Ведь не случайно же в библии есть образ лани, которая рядом с волком возляжет, и не будут они уже друг друга есть. Какое-то новое состояние твари. Татьяна Горечева — замечательный христианский философ, феминистка, которая очень много пишет как раз вообще о животных в христианстве, и об этой безгрешности животных, и об этом новом состоянии твари. Но там как раз взаимоотношения человека с животным. С одной стороны животное где-то и образец нам, а с другой стороны мы должны его вывести в свет преображения, ведь оно тоже там друг друга ест. Вот у Заболоцого они не хотят есть друг друга, они делают другой какой-то выбор. Мы, кстати, знаем, что животное, которое живет с человеком, и животное, которое живет в природе, это очень разные состояния одних и тех же существ. Например, у Даниила Андреева очень интересная его работа «Роза мира» и поэма «Железная мистерия», он тоже очень близок к космизму. Там была идея зоопедагогики. Но зоопедагогики не в смысле кнута, а зоовоспитание, воспитание добра, блага, любви во взаимоотношениях с животными, чтобы они друг друга не ели, условно говоря, а как-то любили, не враждовали. Вот это наука зоовоспитания. Там у него «членораздельнейшую речь, развив для них усильем вдумчивым, цивилизацию стеречь поручим зайцам, зебрам, сумчатым». Мне на самом деле кажется, Екатерина, что было бы интересно тексты русского космизма, русской литературы, такие как «Роза мира», «Железная мистерия», как-то попытаться творчески состыковать, чтобы возникло некое высокое напряжение с текстами трансгуманизма, и, может быть, выйти еще к какому-то новому пониманию.
Екатерина Никитина: Я соглашусь. Генеалогия это все очень интересно. Мы работаем, в частности, тоже со старыми текстами, с советскими учебниками. Но здесь все-таки нужно разделять позиции в том плане, что когда мы говорим о тексте и когда мы говорим о каких-то научных фактах и поведении биологическом. Я опиралась на Харауэй, — она все-таки биолог, и здесь есть установки, которые мы не поженим с космизмом. Хотя, конечно, исследования текстов это самое здоровское, что можно сделать, применяя те или иные оптики.
Ирина Гулякина: У нас последний тезис по художественному потенциалу, обозначенных философских теорий, которые здесь прозвучали. Мне кажется, мы уже начали об этом говорить.
Екатерина Никитина: Мне кажется, вам надо высказаться, потому что у вас тут выставка, которая все это художественно реализовывает.
Роман Коновалов: Наша выставка здесь, в «Галерее 22» и есть тот самый потенциал.
Екатерина Никитина: Да.

Анастасия Гачева: Можно еще одно слово. Я не художница, но мне, если говорить о современном художественном поле, очень близко то, что делает Леонид Тишков. Я считаю, что его попытка работать с темой космоса и с темой памяти, и такой воскрешающей памяти очень удачна. У нас недавно была его выставка в Библиотеке. У него материя прошедшего, кусочки старых одежд, которые мы выбрасываем, выбрасываем немилосердно эти вещи, обрекаем их на смерть, на гибель, из них свертываются махорики, потом из них создаются новые одежды, коврики, скафандр для космонавта. Вот эта работа с памятью, работа с ушедшей жизнью, это действительно очень интересно, потом такое природнение космоса. Люблю проект «Частная луна», когда он поит ее чаем, яблоками кормит, когда она приходит к нему, он с ней путешествует, везет на санках. Вот это такое субъект-субъектное, родственно-любовное, тут нет дистанции между человеком и бытием. В то же время человек все-таки водитель твари, в нем есть эти смыслы, в том числе энергия любви и попечение о мире. Вот это у него есть. Очень интересные у Антона Видокле работы: то, что он делает. Особенно фильм «Воскрешение и бессмертие для всех», где Арсений играл. У Арсения мне очень понравился последний проект Института Овладения Временем. На самом деле, ребят, мне очень интересно то, что делаете вы. То, о чем сказала Ирина, что не сталкивать, опять чтобы было отталкивание друг от друга, бесконечное перетягивание каната, кто прав, кто виноват, а попытка действительно найти, как в гегелевском смысле, синтез творчества. Синтез, когда возникает некая целостность, когда каждое высказывание приближает нас к будущему, в котором всем будет место — и животным, и растениям, и человеку, и стихиям. Всем. Только уже не будет смерти. Я думаю, что это очень важно. Я очень люблю отца Александра Меня, мне кажется, это один из самых выдающихся священников и мыслителей. У него есть такой семитомник «История религии. В поисках пути, истины и жизни». Он рассматривает всю историю человечества, как некое движение к явлению Христа и явлению целостного идеала. Я думаю, что на самом деле то, о чем мы сегодня говорили, разные версии образа мира, человека и будущего, это тоже наше какое-то движение к целостному идеалу. Мне кажется, что самое главное это то, о чем космисты говорили, всеобщность спасения, апокатастасис. Это невозможность примириться с тем, что кто-то будет спасен, а кто-то нет, кто-то будет в этом новом мире, а кто-то нет, кем-то можно пожертвовать ради кого-то. Или необходимо, чтобы вот это благо и любовь соединяли вообще всех, все существа и все вещи мира. Я думаю, что этот принцип всеобщности спасения очень важен. С ним могло бы сейчас интересно искусство поработать. Мир страшно разделен, мы постоянно кого-то приговариваем. Говорим, что это те или иные идеи, диалоги или люди они, так сказать, должны быть выброшены из будущего и из настоящего. А вот как поработать с этой повесткой всеобщности спасения? Мне кажется, это очень большая загадка!
Ирина Гулякина: Спасибо всем. Была очень плодотворная встреча.
Евгений Кучинов: Вам спасибо, до свидания.