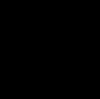Абъект а: диалектика вязкого / диалектика скользкого
Очевидно, взрослые низводят приходящее в мир существо, которое поначалу составляет наше бытие, до уровня безделушки.
(Ж. Батай, «Внутренний опыт»)
Пространство и время
Пространство-время, прото-время-как-бесконечно-открытое, про-странство/ие как вырванность из контекста себя-как-оседлости, про-странное время то и дело всколыхивают сингулярность события (что по сути и наделяет его статусом оного), в рамках которого интенсивность преходящего (говорящего) бытия выходит за рамки расчленения бесконечно-открытого на эти самые пространство и время как
Центр тяжести ритмики, полиритмии повторений смещается в сторону спазмического, вверенности себя тотальности реакции: здесь нет места жестикуляции, нет места театру тела, корпореальному проявлению как означающему, ибо последнее предусматривает интервал, паузу, разбитость со-бытия, бытия-как-интерсубъективности на такты, акцентировку, в которую всегда вложено больше, чем нужно — доплачено ровно столько, сколько д/Другой берет за признание. Таким образом, фантазматическое в смысле распыленности бытия в абстракцию прошлого и будущего скукоживается, вжимается в (пере)насыщенность, избыточность, заряженность настоящего, требующего от субъективности всего, что у нее есть, но чего она не готова отдать, а посему и всего, чего у нее нет, ведь она не ведает о том, что у нее есть — ведать о нем она, как водится, не желает.
Актуальность настоящего активизируется, сталкиваясь лицом к лицу с субъективностью, соскабливает невротический театр с гримасы боли, прерывает виртуальную переписку между субъективностью как
Рождение нового
Субъективность, привыкшая мыслить себя в терминах обладания и принадлежности, оказывается в плену скольжения, скользкости, вязкости — в плену свободы, которой она не желает — сталкиваясь с
Явление, то есть то, что является субъективности, вспарывает семблантную оболочку новоявленностью, еще-не-символизированностью образа — безобразностью! — и безапелляционностью телесности, корпореальности, травмирует новизной и уродством родства, которое скалится из зазеркалья параноидностью происходящего. Пока самоидентификация тщетно пытается наверстать упущенное, наскребая по сусекам цепочки означающих ресурсы для мифологизации, текстуализации абъекта а, эшелоны грядущих сновидений наполняются новобранцами.
Между д/телом, походя, такого рода новоявленность — та, что противится разрыву своей связи с Реальным — проливает зловещий, травматический свет на творческий акт как таковой, выворачивается наизнанку, выставляя напоказ субъективности свое нутро и тот болезненный, вечно воспаленный стык филогенеза и онтогенеза, на котором он функционирует, стык бытия-как-непрерывности/становления, где событие творческого акта является не более чем вспышкой интенсивности на локальном, контингентном уровне, и антропоцентрической концепции ex nihilo, в соответствии с которой творческий акт мыслит себя посредством субъективности как автономность, таким образом отрицая виртуальность, асубстантивность сублимативной, символической, всегда-уже-ретроспективной/вторичной обработки онтологического среза события.
Выход изнутри вовне (радикальная экстимность события)
Скользкий путь новоявленной корпореальности является таковым как для уже-, так и для еще-не-субъективности. Но было бы классической ошибкой замыкать событие в себе, ведь как впереди, так и позади вьется череда объектов а и объектов х (симулякров первых), скользящих друг по другу и друг в друге (в буквальном смысле), отсылая к абъекту а либо на уровне ожидания / предвкушения (фантазматическое скольжение), либо на уровне повторения / инерции, которой не страшна ни одна сила трения (посттравматическое скольжение). Речь идет не о вариации на тему экстимности, но об экстимности par excellence — той, что неприкрыто высмеивает себя как означающее.
Особо смелые канализируют такого рода скользкий путь к субъективизации в фантазии, задействующие морских тварей, проникающих во все доступные им отверстия. Еще более смелые (как водится, перверты) не размениваются на фантазии, претворяя их в жизнь в форме абъектно-ориентированной онтологии. В рамках последней происходит переаценка понятия скользкости и вязкости, выветривание из их буквальности ипостаси означающего-как-несовместимости с этой самой буквальностью. Очарованность скольжением-как-трансформирующим-событием, со-бытием с абъектом а при определенных обстоятельствах, будучи помноженной на очарованность, спровоцированную «подлым» наклоном зеркала, имеет все шансы на то, чтобы вылиться, выскользнуть из пазов невротического загустевания на абъектно-ориентированный гололед на правах синтома, посттравматического слалома, без которого производство смысла перестает быть возможным.
Извлечение из нутра вовне
Абъект а выскальзывает вовне с трудом, совместным трудом субъективностей, которым срочно нужно разрубить этот Гордиев узел тел, срочно нужно развести всех по углам, чтобы каждый знал свое место, пусть и ценой ненависти к своему симптому. Беспрецедентная, почти театральная цепкость противопоставляет себя вязко-скользкой ипостаси Реального, чтобы привести эту вакханалию в состояние равновесия. (У)роды.
Перерождение абъекта а в протосубъективность, в проецируемость автономности, смысла и автономности смысла сопровождается прибиранием оного к рукам. Руки другого. Другой как руки, а то и длань Господня. Возвращение в лоно смысла форсируется кастрирующей, лишающей на уровне Реального ипостасью бытия, бытием-как-божественностью, и в этом акте сие возвращение перекликается, братается со смертью и с ее образом. Явление на свет предстает в абсурдном, оксюморонообразном же свете, свете, который проливает себя на невыносимость представляемого систематичным крушением смысла. Вынося спасительный акт наименования за скобки события, основополагающая субстанция (свет), лежащая в основе представления — как репрезентации в целом и как невротического/общественного спектакля, не говоря уже о самой по себе возможности объективации срезов бытия, его расчленения на фрагменты матереального, видимые глазу и подвластные осмыслению — режет эти самые глаза фатальностью, самодурством происходящего, никак не ассоциируясь с огнями театральной рампы, отказываясь выкристаллизовываться в сцену, которую можно вогнать во временные и драматургические рамки и с которой, в самом крайнем случае, можно сойти. Автоматон (по)явления на свет не оставляет сомнений по поводу того, что он не является автоматоном субъективности, проживающей травму, но неким автоматоном д/Другого порядка, автоматоном порядка Другого, чья логика действий лежит в плоскости, не пересекающейся с плоскостью сиюминутного опыта субъективности. Еще один (сколько еще?) раскол в
Тело и порог
Вязкость, скользкость, склизкость, мерзость бытия течет и просачивается вовне и вовнутрь, использует редкую возможность осесть на каждом участке тел, пока Закон гигиены не отвоевал свои владения, не одел всех в чистые одежды, не сокрыл срамное, не изъял из онтологической мизансцены внутреннее, не разложил по эпистемологическим полочкам все объекты а, не возвел на фантазматический/нарциссический пьедестал абъект а; пока Права человека не окружили субъективность нейтральными водами личного пространства. Пока же этого не произошло, пространство воссоединяется с временем, с тем, что субъективность именует безвременьем, ненадолго позволяя себе насладиться текучестью и сопротивлением материалов в качестве сил, режиссирующих сцену; тело перестает быть порогом, перестает стоять на страже себя как целостности, как сущности, обладающей сутью. Оно становится пористым, податливым вопреки и благодаря (внезапно эти понятия становятся синонимами) физической боли.
Прохождение корпореальных порогов во что бы то ни стало доводит до банальности функцию сопротивления в качестве той, что катализирует трансформацию. Связь между этим самым прохождением порогов и безвозвратной реорганизацией структуры очевидна. Под реорганизацией стоит понимать не что иное, как актуализацию всегда-уже-подразумеваемого, ожидаемого ли или отторгаемого. Очередное проявление божественного, воли бесконечно-открытого, филогенетического. Безымянное внедряется в Эдипальное отныне-навсегда пульсирующим пробелом, апостериори проложившем иные, окольные пути наслаждения, вытеснение которых на самом поверхностном уровне будет проявляться в гипертрофированности фаллического, будь то со знаком ‘плюс’ (одержимая мать) или со знаком ‘минус’ (апатичная мать). Безымянное как сиротское, порог как означаемое без означающего так не и найдет себя в поле Эдипального, а чаще всего и в поле смысла вообще.
Тело как сосуд
Наполненность и опустошенность, экзистенциальный саспенс оных, трансцендеция терпения и терпеливости. Наполнение сосуда занимает бесконечно долгое время, достаточное для того, чтобы перестать ‘есть’ и начать ‘жрать’, чтобы погрязнуть в ужасе от корпореальной и, соответственно, душевной трансформации, смягчаемом (ли?) пред/пост- Эдипальной квазипоэтикой имен и ролей, тщащейся заслонить собой неотвратимость грядущего события. Преждевременность рождения, явления абъекта а, homo non habilis, образует иной, диаметрально противоположный полюс события, подрывающий шаткие фантазматические основы навязчивой идеализации. Но пока сия очевидность не возвращает (интер)субъективность на круги своя (вытеснение, отрицание, очарованность образом), пока соки бытия не застынут в форме забившихся по углам псевдоцелостностей, пока сфинктеры не опомнятся, не вспомнят об отведенной им роли, а руки о том, что надо держать дистанцию, мимолетная сообщность сосудов будет дергаться, колыхаться, отдаваться дьявольской качке, в которой соки жизни будут вытекать, расплескиваться и заляпывать все и вся. Вязкость, скользкость бытия еще будут давать о себе знать через тело абъекта а, но эти мосты отвязного наслаждения скоро будут сожжены: объектная расстановка а-сил восстановлена и каждый снова одинок в своем теле, не желая ничего об этом знать. Сосуд разбит. Вязко-скользкая диалектика безвозвратно нарушена.