Скитания в лимбе: Наталья Исаева о романе Сергея Соловьева «Адамов мост»
Степь, зной, дорога… И ты плывешь в этом валком воздухе, рвет тебя, выворачивает — речью, памятью, всем, что звалось жизнью. Нечем уже, только спазмы в горле, и эта ладонь у губ. Годы. Будто душа отлетела, но все еще здесь, видит, как тебя выворачивает — мной, нами. Видит, висит, как чучелко, как летучая мышь. Белые коридоры, за руку воздуха держишься, а в другой — ребенок. Маленький взрослый, зачатый в пещерке отшельника на краю обрыва. И ты обнимаешь его, чуть светлея, — как тьма огонек. Как тьма огонек… Я не помню твое лицо. Как и ты — того, с кем была. И иду вдоль тебя, как вдоль стены, и говорю, говорю с тобой. Годы. С этим осиновым колом счастья, воткнутым в спину.
Вторым изданием вышла сейчас книга Сергея Соловьева «Адамов мост». Уже столько было сказано — я пишу вслед. Главное, конечно же, было названо: это прежде всего проза поэта. Особый строй образов, синтаксис, постепенно прорастающий из артикуляции, из самой фонической материи. 500-страничный роман, написанный как стихотворение (Станислав Львовский), и не иначе чем так он и обживается в сознании и удерживается в памяти.
Сюжет — странствие по Индии, но видно сразу: герои путешествуют скорее в пространствах переживаемой любви, а та постепенно оказывается пройденной до конца, до кромки полусна-полуяви.
Индия стоит на одной ноге, а ладони сведены над головой, в Гималаях. В горле — огонь, Бенарес. А мы к югу движемся, к тамилам, где земля красная, и солнце из вод встает и в них же ложится. Туда и едем — кконцу-началу .
Адамов мост — муравейный, муаровый путь — с одного берега на другой. Так, по легенде, шел по островкам Адам — из рая Шри Ланки в Индию, а по другой легенде — в противоход — шел Рама на Ланку, в сад Демона, за возлюбленной Ситой.
Сгустки смыслов, совсем иначе сплетающихся на этих обманчиво прозаических просторах. Там, где должно быть привольно, протяжно — чудовищная компрессия. Потому что — не продохнуть, так тесно. Потому что не вылечиться — так рвано. Как у Арто, с его огнем страсти и художества, раскаляющим и прожигающим материю — вплоть до возгонки и кристаллизации последнего смысла… И барочная избыточность, восточный антураж, пряное дыхание Индии нужны отнюдь не для экзотики, не для увлекательности повествования…
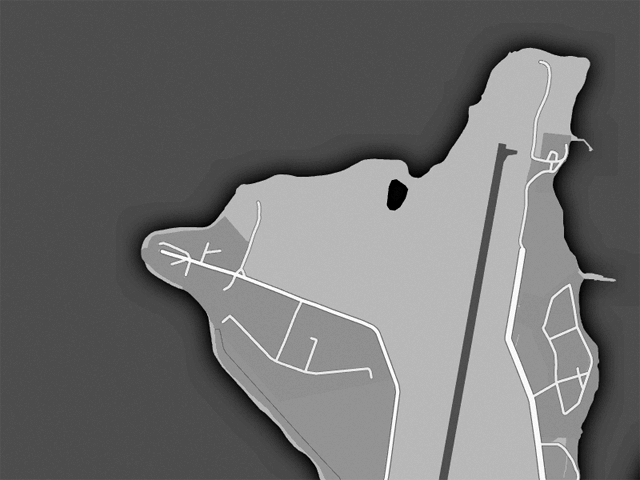
В предшественниках тут — конечно же, «Египетская марка» Мандельштама, «Повесть о Сонечке» Цветаевой, тексты Целана, эссе Арто, пьесы и романы Жене… Арто, который говорит: нам нужен восточный театр и восточное отношение к слову, и дело вовсе не в цветистости экзотических земель и обычаев. Просто это наивернейший способ — именно в усилии возгонки, в алхимической сублимации, в этом претворенном опыте восточной эстетики и восточной чувственности есть шанс, что перед нами вдруг всплывет новое знание, что пока только мерцало невнятно вдали…
Вспомним: и Жан Жене твердил читателям — вот чуть отвернешься, — и Господи, не приведи! — что там слова вытворяют друг с другом… Его любимый образ: кладбища вокруг городов, превращенные в театры — как аура любостяжания вокруг слов, всех слов — даже самых безобидных…
Эта дикая скачка слов, подобных зверям в течке, а также то, что срывается с наших уст, создает некую пьяную оргию слов, которые невинно или не совсем невинно трахаются друг с другом — это и придает французской речи здоровый вид лесистой местности, где отлично приживаются все заблудившиеся звери (Жан Жене).
Или, скажем, если уж брать ближе к сегодняшнему времени — «Почтовая открытка» Жака Дерриды — пожалуй, лучший любовный роман французских философов-семиологов. Деррида, скупивший в Оксфорде почти весь тираж открыток с репродукцией средневековой миниатюры, где Сократ пишет под диктовку Платона (то есть с обороткой священной связи «учитель-ученик», равно как и с травестийным выворачиванием наизнанку самого соотношения письменного и устного слова).

Куда же мы идем вслед за автором, пробираясь сквозь эту чащобу слов, отсылок (от Гоголя до Саши Соколова, от Томаса Элиота до Кафки). Что ищем — ну, кроме дороги сквозь Индию, кроме пути на Ланку? Что слышно в этом диалоге с женщиной — до полного растворения, до неразъемности и неотличимости? Невесомая маленькая девочка, бездомный «бомжик» в оранжевой куртке до пупа, в стоптанных кроссовках, она ведь рядом — спутница, сцепившая пальцы с рассказчиком. Это она отзывается, зеркальцем ловит слова, проговаривает, раскручивает их, — ты бросил мне мячик — смотри, я поймала!… Отзывается, ходит кругами по тем же тропам, — вот так, уткнувшись лицом в его плечо… Даже если отсюда не выбраться по-живому. Что-то случается? Исчезает любовь, как-то невзначай теряется жизнь? Но даже пока она еще идет совсем рядом — след в след — это всё равно путешествие Орфея, отправившегося Эвридикой… Весь текст — как обращенное к ней слово, как диалог, который становится развернутым монологом. После события. После опыта. Если — когда — ее не станет (выпадет из любви, смертью умрет…) — переломится пополам и сам рассказчик.
Помнишь ту девочку — в цунами ее унесло в океан, без вести, плыла, прижавшись к оконной раме, вниз смотрела, в стекло. Так и плывем. Ты стекло, я девочка. Ты девочка, я стекло.
Что ищем здесь? Думаю: источник Голоса. Ту дыру, то зияние, из которого и произносится нечто сквозь меня, помимо меня. То Цветаевское: Сивилла: выжжена, Сивилла: ствол. / Все птицы вымерли, но Бог вошел. /… И вдруг, отчаявшись искать извне: / Сердцем и голосом упав: во мне! То есть важно ощутить ту полость, ту точку, из которой и раздается Голос.
Люба, зову. Уже без голоса. Люба… Не отвечает. Ни на звонки, ни на письма. А прильнешь щекой, стоит, опустив руки, и тишь в ней такая, будто она не здесь, а за окном, и снег идет в ней. Стоит, терпит. Пытка близостью — тех, кого уже нет.
А когда им, этим птицам-носорогам, приходит время высиживать потомство, он ее замуровывает в дупле дерева, оставляя маленькое оконце, чтобы передавать пищу из губ в губы и вновь исчезать на поиски. И если однажды он не вернется, мало ли что случилось, она, конечно, и сама могла бы выбраться из этой темницы, но ждет, верит, гибнет.
Помнишь, книгу счастья хотел написать, и мы бы в ней жили — и в ней и снаружи. И книга была бы как сад, а жизнь как дом. И мы бы сидели с тобой на крыльце, одни на свете.
Мы и сидели.
Что ж, говоришь, мне ответить тебе на это счастье, на всю его подноготную, которая так болит, что ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Кто говорит? Кому?
Люба, вмурованная им в Юлию, он, вмурованный Юлией в барку. Они, вмурованные в речь. Губы, оконце, поиск. И риск не вернуться. И нет другого пути.
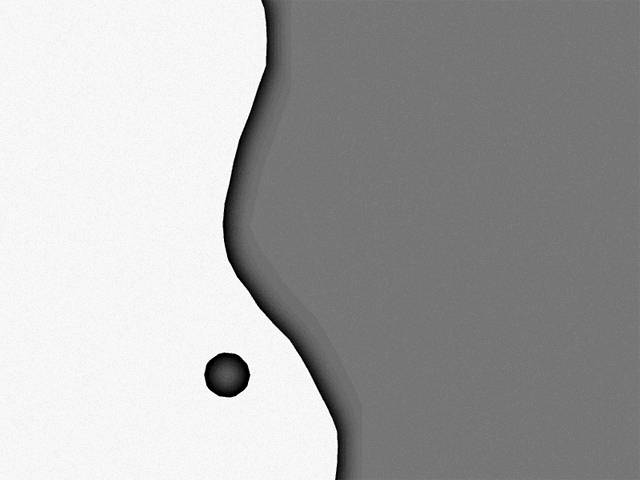
Тот источник сознания, тот взгляд. Тот. (Не забывайте, мы в Индии!) Атман, который смотрит, иллюзорно дробясь на множество сознаний… Тот атман веданты или кашмирских шиваитов, что проецирует разноцветные миры, весь мерцающий космос на марлевую занавеску, натянутую у входа в хижину.
Помнишь, как он говорил о мире, что, мол, наряду с существующим, есть и такие его состояния, о которых нельзя сказать, существует он или нет. И это второе пребывает внутри первого, в любой его точке, всегда, стоит нам лишь приблизить взгляд. Нет, не так говорил он, делил на отрезки время, и вдруг заметил, что этому нет предела, и за
Вот она, вся тут, ткань книги. Потому что детали удивительно точны, подробности предъявлены, но все они вместе так задевают, так колются, что возникает ощущение перенасыщенного раствора, когда слова выпадают хлопьями, твердеют, стекленеют в кристаллы. Вот тут и видишь, как язык раскручивает юлу, вертушку, карусель жизни…
Атман, погруженный в эту «майю», в эту «лилу» — театральную игру мироздания. Тот, кто примеряет на себя множество причудливых форм — от тигра, «светло горящего», до любушки рядом, от садху, бормочущего мантры, до хорватки, прижившейся здесь, в Индии, здесь и родившей. (Вот тигр пришел: Это не страх, нет. Другое. В упор смотрит. Чуть ощерен. Усы продергиваются, вверх-вниз… Мутно-желтые, а зрачки неподвижны. И

Собственно, это и
(Нет ее, говорю, видишь, ничего у нас нет. Все, чем жили, ушло, уходит. Знаешь, где самое излюбленное место отчаянья? У корней счастья. Это Кьеркегор сказал. И еще говорит, что ад отчаянья — переход от возможного к реальному. Может, Индия для того и дана нам сейчас, чтобы найти выход. Так мы с ней говорили в том ниточном поезде на перегоне между двумя жизнями — исчезающей и еще не пришедшей.)
Ибо всё ведь — только через страсть, не иначе… Всюду, куда ни сунься — голая страсть, и энергия, и воздыхание, и соблазн дьявольский. Лучше уж быть при: при гордости, при свободе, при любви. Тогда сойдешь в Аид, ублаготворенный днями… И ни слова о созерцательной мудрости декартового cogito (да и к чему? там ведь было просто умственное упражнение, абстрактная гипотеза). И совсем иначе бывает, когда это странное знание: я живой, я здесь, это я смотрю, — приходит к нам реально, почти как мистическое переживание, когда оно на самом деле укореняется во внутреннем опыте. Тут и оказывается, что нам нужно высшее напряжение страсти, чтобы брызнул наконец наружу Голос.
Ганга, в которой купаются слоны, куда скидывают пепел умерших, — да, женского рода. Речь, которая речет… («Вак… вакти», прямо по позднему Хайдеггеру, для которого эта стихия речи — тоже женского рода: Die Sprache allein ist es, die eigentlich spricht. Und sie spricht einsam. — «Только сама Речь, по сути, и говорит. И она одна говорит.») Индийская Вач — та богиня Речи, которая — через творческий порыв поэта, связующий их, — находит воплощение в слове, находит себе форму благодаря особому «вкусу» (раса), который сам сродни живому, внутреннему соку растения в стебле, правда, соку перебродившему, сквашенному дрожжами крайнего, трансгрессивного усилия. Сок-то этот, выходит, — нечто вроде Сомы, вроде жреческого хмельного питья. Потому, при всем неоспоримом техническом искусстве санскритских поэтов, важны не ремесленные, литературные достоинства вещи, но скорее — онтологическая страсть, меняющая состав выдуманного мира. Не окраска. Не цвет граната. Вообще, никоим образом не технические ухищрения художника, но онтологическая страсть, энергия (шакти), понимаемая как вечное развертывание желания. Коль скоро эта страсть и сама не знает еще — куда причалить…

Видно, мир не подпускает ближе, держит в этой черте оседлости — получувств, полужизни. Помнишь смерть каракатицы, брошенной рыбаками? Переливчатый студень, врубелевская царевна, она лежала в песке, глядела в нас своим полузасыпанным глазом, смерть перебегала в ней, как из комнаты в комнату, передергиваясь на ходу. Гасла, переливаясь и вспыхивая, как Иерусалим, как Небесный град. А глаз ее все смотрел, заволакиваясь. Это было началом косы, этот взгляд с песком, этот глухарь жизни, которого мы несли, прикрывая майкой от солнечного удара. Вот об этом я, понимаешь? О том, к чему человека не подпускают. Ведут стороной, по краю, лицом к стене, на которой мир — живой, нарисован. И
Всё тут держится на этом странном натяжении между глядящим оком, «зрящим зрением», (sehende Sehen), которое сочиняет для себя мир, — и чувственным усилием (страха ли, охотничьего азарта, наката страсти), создающим неотменимую потребность — говорить. Поздний Хайдеггер, почти бросивший философию ради поэзии и этимологических изысканий, видит теперь язык, Речь, как ту единственную силу, что говорит за нас, вместо нас, изнутри нас. И Вальтер Беньямин, перед войной занимавшийся исследованиями языка, напоминает нам, что духовная сущность прямо передает себя в языке, в акте говорения (а вовсе не сообщает нам нечто посредством языка). Джорджо Агамбен, еще заставший Хайдеггера и слушавший его лекции, успевший выступить издателем Беньямина, делает еще один шаг навстречу индийской традиции веданты и кашмирских шиваитов. Речь, желающая сказаться через нас (он говорит: «Голос», «La Voce che parla») добивается прежде всего самого этого акта, момента произнесения. Но для человека согласиться стать таким вместилищем «сказывания» означает, что в этом предельном усилии (а оно необходимо, чтобы в полную меру раскрыться для этого Голоса), он слышит вдруг в самом этом акте говорения иную Речь, которая ему открывается. Эта Речь приходит как заклинание, как опасный заговор; по словам Агамбена, согласиться стать таким вместилищем для этого языка означает «согласиться на смерть, на умирание… То, что делает этот язык нашим языком, а [сотворенный нами] мир — нашим миром, составляет негативное основание человека как свободного и говорящего существа, принимающего смерть» («Язык и смерть. Место негативности»).
Господи, говорю ему, этому странному косоглазому дару, кроме тебя ведь и нет ничего. Все наши цели, пути, веры — не от хорошей жизни. Ему говорю, не открывая глаз. Ему, этой спичке во тьме, мотыльку пламени — вспыхнул, погас. Мать стоит у окна, чашка в руке дрожит, губы на вдохе чуть изумленные… Смерклось, и нет ее, чашка еще дрожит. Как дождь по крыше. Ему говорю — слову, без которого все есть и ничто не дышит. Будто вставшие из могил — память, слух, зренье, руками водят вокруг себя: вот путь, вот жизнь… Не дотянуться. Даже не декорации — разберут, унесут, другие вырастят. Нет, хуже, чище: взгляд как нож по воде рисует — ни следа. Без него, который шьет тобой и распускает, шьет и распускает тобой все на свете, дышит тобой, помнит тобой, оставляет жить.

А ты все сидишь у окна, обхватив прижатые к подбородку колени, и смотришь в мое лицо, ждешь, когда я проснусь, глаза открою. (…) Не вырони, Господи, говорю туда, где уже и нет его, только нити скользят. Где она, та сторона, куда письма слать, ведь мы есть то, к чему мы обращены, в чем отражаемся. Вей веревки, плети переправы. Иначе не дотянуться, не назвать, не окликнуть. Да и кого? На полслова ошибся — и всё, нет того дерева, дочери, облака. Сглотнул на бегу, а что это было? Приблизительно жизнь. А в углу обращенности маленький оборотень сидит, в кулачки дует.
В Индии же та самая богиня Речи, Вач, — та, что отвечает за страсть, за энергию, — та, которая и сама есть предельное усилие поэтического заклинания и эротической страсти (шакти), имеет и иной, сокрытый лик. К ближайшим, любимейшим своим адептам она поворачивает другое лицо — не просто улыбку и дар эротики, напряженной сексуальной энергии тантры. Любимейшим она шепчет на ушко: это же я, Кали, богиня смерти, та, что пляшет в тигровых шкурах, в ожерелье из черепов, с окровавленным, зияющим ртом-пастью, да, я танцую для тебя на гхатах, в местах сожжения трупов, я танцую с тобой…
Вот тут мы и выходим снова на точку слома — на ту сторону, в параллельное повествование романа, в параллельное плавание Барки.
Двое нас. Один пишет, другой молчит. Другой — это я, которого здесь нет. А где есть? Хороший вопрос — для обоих… Оба мы шли ко дну из той точки разлома. Медленно шли, годы. Еще плавали пятна света — там, вверху. Я их собирал взглядом, словом, обращенный лицом к ним — я, не он.
Разумеется, мотив здесь легко узнаваем, да и
Прежде всего — это «Егерь Гракх» Кафки. Собственно и описано здесь путешествие охотника, который оказался заброшен в особое пространство между жизнью и смертью. Барка. Откуда это? Конечно же, «Егерь Гракх», но не только. Еще — тот чёлн смуты у Федора Михайловича, и одновременно — «Чуждый чарам черный чёлн». Всегда — сопряженный с тьмою. Всегда — скользящий тихо, неприметно, по маслу, по черной нефти, сквозь забвение — к новому припоминанию. Пассажир. Капитан. Тот, кто затерялся в точке перехода, завис между мирами… Да и женщина здесь — другая, это уже жена шкипера Юлия, неизменно приносящая рассказчику напиток той страны, где на время пристает к берегу его чёлн. Индийская сома — тот самый ритуальный напиток экстаза (поэзии) и забвения, напиток, без которого невозможен, не выплетается сам обряд жертвоприношения. Егерь Гракх — тот Мертвец Джармуша, которого наконец положили в барку и пустили — правильно наряженного — как раз в тот узкий пролив между оконечностью Индостана — и Ланкой.
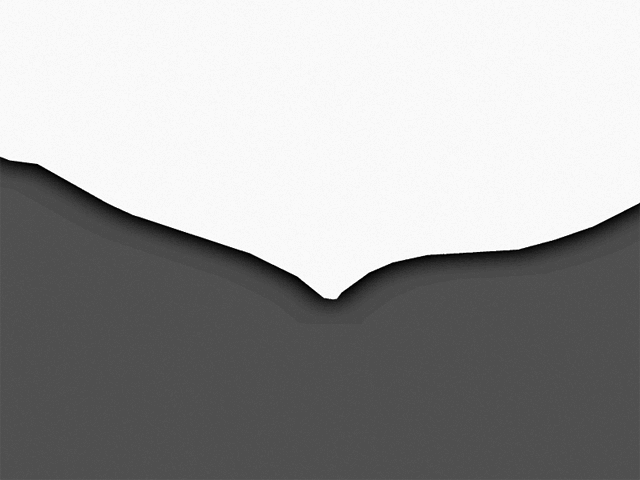
Что же это за подвешенное состояние между мирами, в сумеречной полосе? В индийской традиции говорится о «тонком теле» («линга-шарира»), связующем разные воплощения души. Тонкие следы прежнего рождения, остатки прикосновений (Ну, Пастернак же: «Не трогать, свежевыкрашен» — / Душа не береглась, / И память — в пятнах икр и щёк, / И рук, и губ, и глаз…»). Даже само обозначение этой тонкой субстанции, путешествующей в лимбе, уже примечательно — как напоминание о тайном имени души, сохраняющем ее для нового воплощения…
Путешествия души в лимбе, в междуцарствии, в междумирии, где слова заведомо имеют куда более пышную плоть, чем любые (бывшие? будущие?) вещи. Где душа подбирает себе новое платье… Откуда не хочется уходить… И где всё нанизано на отражения зеркал: зеркало в зеркале. А сама эта женщина, самая любимая, самая разлюбленная — как Сергей Соловьев скажет потом в поздней записи (я подглядела в фейсбуке): бывают женщины — как вереницы зеркал, женщина-вереница…
Вот такая русская книга с индийским отсветом. Я не случайно попыталась отследить и некоторые параллельные ей повороты внутри философской мысли — поскольку текст этот прежде всего открывает для нас новый способ видеть. Иначе говоря, помимо чувственной необходимости оглядеться в этой новой вселенной, помимо желания ощутить и перетрогать в ней всё: вещи и их тени, цветы и оберточную бумагу, непривычную еду, само это странное естество людей и животных, — книга помогает нам по-новому строить и саму структуру этого взгляда. Есть как бы некая призма, линза, которая тут для нас поставлена. Нет, здесь я, пожалуй, сбилась: мои индусы были не в пример точнее. Фильтруется, преломляется не столько визуальный образ, сколько слуховое впечатление. Гул первичного, первородного языка, который становится слышен — а потом и внятен, зрим.

Нет, и это не так, тут что-то другое — за речью, глубже, дальше, огромнее и ничтожней. Не музыка, не воздух ворованный, не брюссельские кружева. Та первородная отверстость, открытость, голость, которая только и дает возможность такого письма, сродни неуследимому (тысячерукому) танцу жизни, его разнонаправленной симультанной взвинченности при мнимой недвижности. На этом — за ним, за нею — этом зиянии пишется, с голоса. (Тут даже при отсутствии сюжета в привычном смысле, мы его и нелинейным назвать не можем: скорее, это ближе к монументальному изображению во тьме, и речь (письмо) работает здесь неким световым зумом, приближая взгляд к
Старуха Симург снилась. Помнишь ту великую старуху на пустынном перроне, а внизу текли облака? Один поезд в сутки, проходящий. И каждое утро она шла к нему. Голова свешена чуть ли не до земли, и эти огромные очки с телескопической диоптрией все время падали, она не могла их поднять, опираясь на палку, глядя на них почти слепыми глазами, в нескольких сантиметрах от этих очков. А потом садилась на асфальт перрона и водила у лица открытой вверх ладонью. Думали, нищенка, давали милостыню. Она кивала, улыбаясь, не видя и не слыша тех, кто склонялся над ней. Кому, чему она подставляла эту ладонь? Не людям, казалось, уже не людям. Снилось, что мы летим, летим, и эта вселенная, где летим световые годы, — ее лицо. И там, в самом начале мира, лежит — я и слова не подберу — не уязвимость, не открытость… Такая незащищенность, какая, должно быть, не знакома ни одной из форм жизни. Там начало. А иначе ничто на свете не могло лечь в его основу. Силы бы не хватило, крепости. А потом уже эта улыбка — облетающая, тополиная.
.
