Иван Ермолаев. Модернизм отчаяния
Расширяя свои издательские стратегии, Издательство книжного магазина «Циолковский» подготовило и уже отправило в печать первый сборник стихов молодого и интересного поэта Ивана Ермолаева. Сочетание глубоко продуманных революционных мотивов и глубоко прочувствованного недогматического христианства в сознании автора позволяют Ивану Ермолаеву без всякой позы и пафоса вновь поднять на знамя поруганное было имя Утопии — родины всех мечтателей, пролетариев и поэтов. Ниже опубликована статья автора, а с некоторыми стихами можно познакомиться в группах VK и Facebook.
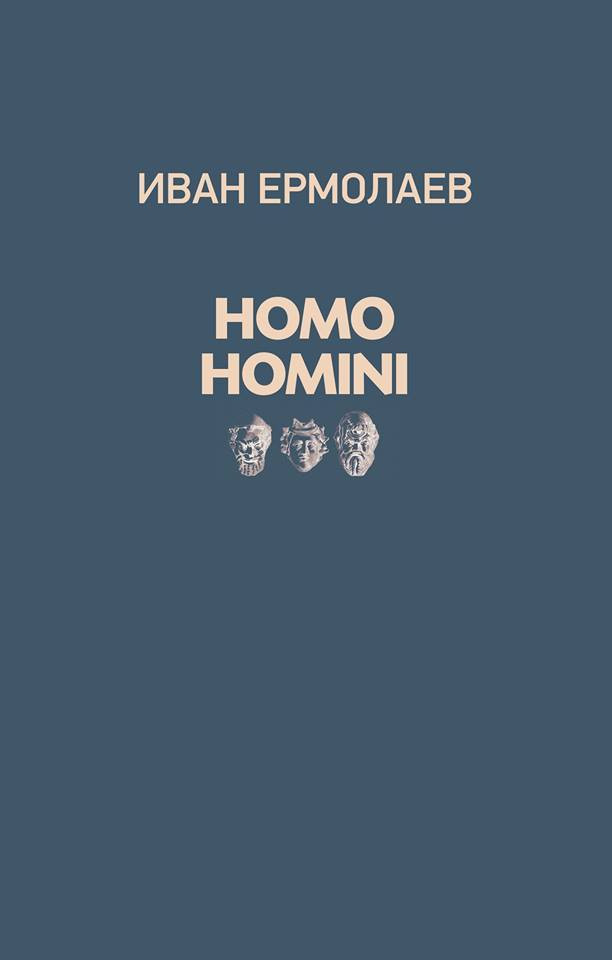
Дарье Штурман, в диалогах с которой
создавалось это произведение
Принцип, в быту часто формулируемый как: «Добро должно быть с кулаками», — в качестве принципа существования культуры был высказан в эпоху модернизма и не утрачивает актуальности по сей день, хотя теперь рассматривать его нужно с несколько иного ракурса, нежели сто лет назад.
Модернизм как период существования и развития европейской цивилизации, равно как и направление в европейском искусстве этого периода, можно разделить на два течения, сменивших одно другое, а в определённый момент наложившихся друг на друга. Общепризнано, что модернизм выразил собою разочарование в существовавших до того средствах выражения мыслей и чувств и осуществил поиск средств новых. В целом это суждение верно, однако нечасто историки культуры говорят о том, что разочарование и поиск почти никогда не были озабочением одних и тех же людей; что, в большинстве случаев — а об исключениях нужно произносить отдельную речь, — разочарование в старом и поиск нового были предметом творчества разных людей и не соприкасались друг с другом в сознании одного отдельно взятого творца.
Течение «разочарования» зачастую именуется в живописи «импрессионизмом», а в литературе — «символизмом». Утверждая это, нельзя, однако, подвести под понятие разочарование лишь безотрадное возлежание на диване в отрешении ото всех радостей жизни. Первая волна модернизма проявляла себя и так, но тем себя отнюдь не ограничивала.
Существовал великий классический проект искусства, начало ему положил Ренессанс. Тогда была высказана мысль, что человек, творение Божие (о каковом статусе человека было известно и в Средние века), может быть не только подобен, но и равен Создателю. Равен — в своей способности постичь Божий замысел, рассказать о том, что постиг сам, другому, а при необходимости конструктивно раскритиковать Творца и внести в его Работу поправки. «Вот есть мир, и человек в мире, и оба они — человек и мир — созданы Богом. С этим утверждением Средневековья я вполне согласен, — говорит нам художник эпохи Возрождения. — Однако помимо этого Средневековье утверждает, что воля и замысел Творца непознаваемы. Но ведь это я, человек, и мой мир — вместилище и выражение Его воли и замысла! Как же я буду осуществлять Божий проект, когда мне неведомы его цель и смысл? Сейчас я стану проникать в Твои задачи, Господи, и попытаюсь как можно тщательнее изобразить их выполнение Тобою, а вместе с тем постараюсь понять, что же следует делать мне — твоему ставленнику в созданном Тобою мире». Осуществляя это, Микеланджело Буонаротти создает фрески Сикстинской капеллы, а Франсуа Рабле — роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» — произведения, постигающие, уточняющие и дополняющие, по мысли их авторов, замысел Творца, т.е. идею человека и мира. Немногим позже Рене Декарт высказывает своё знаменитое «cogito ergo gum»: мышление, по взглядам философа Нового времени, суть способ самого существования человека.
Но если это так, то, стало быть, человек способен обустроить мир по собственному усмотрению? Если мышление — это существование, то существовать человек будет в том, что он мыслит? Выходит, если художник будет мыслить Сикстинскую капеллу, существование его будет происходить в обществе помысленного (и изображённого) им Творца, в обществе героев и пророков? Выходит, так. Но ведь художник в своём праве мыслить (и изображать) тот мир, то общество, в котором ему сподручно существовать — и это необязательно мир и общество Иеремия, Исайи, Иезикииля или Петра, Иоанна, Иакова; необязательно сложнейший, густо- и разнонаселённый мир, по которому, познавая его, странствует Данте в обществе поэта Вергилия или Рабле в обществе мудрого великана Пантагрюэля. Основной посыл Просвещения — эпохи, сменившей Ренессанс: домыслим идеи Ренессанса до конца, и каким именно образом? — выведем искусство из Храма! Художник Просвещения говорит: «Микеланджело и Рабле правы в том, что замысел мироздания воплощает себя в человеке. Но почему же они сковывают себя идеей Бога? Человек сам творец мира, в котором бытийствует, и постижение Бога, в конце концов, не самый увлекательный способ быть. Ну, постигли один раз, поняли, что это можно — и чего мусолить? Давайте теперь творить — а Бога оставим церкви: хочет — пусть живёт в своём Средневековье».
И они творили, и окружали себя портретами лавочников и менял, натюрмортами с изображением кушаний и бутылей вина. Просвещение ещё не знает, каждая ли кухарка может управлять государством, но в том, что всякий обыватель имеет право быть художником и
К основной же части хранителей Духа Европы осознание пришло ни много ни мало через триста лет. «Так вот оно всё тут как!» — примерно это мог воскликнуть ближе ко второй половине XIX века давно разучившийся говорить внятно представитель мелкой или средней буржуазии, в меру вкушающий от стреляющих жиром туш и в меру же — от сущностей т.н. “прекрасного”, большая часть которых в обзоре нашего нового героя посвящена воспеванию всё тех же туш: «Вот оно всё тут как! — тут, в мире прекрасного. Так же, как и в быту. Да, в быту я не прочь причаститься лепоте этого молочного поросёнка, и этой бутыли шато, и этого имбирного лимона, — но в
Маленькое отступление. Стараниями монголо-татар и местных князей на Руси не было Данте и Джотто (XII-XIV вв.), кочевники же да Иван Грозный замещали в Российском государстве Леонардо да Винчи и Микеланджело (XIV-XV вв.), Смута и консервация Алексея Михайловича съели Сервантеса и Веласкеса (конец XV-XVI вв.) Попросту говоря, в России не было Ренессанса, и Средневековье в России приблизилось к завершению только при Петре I. Только в XVIII веке Ломоносов и Тредиаковский произвели реформу русского стихосложения, только Пушкин синтезировал литературный русский язык, окончательно выведя его из плена языка церковно-славянского — так полтысячелетия назад Данте предпочёл итальянский в раскрытии тем и изложении идей, бывших прежде в юрисдикции исключительно латыни. При этом процесс обновления русской культуры — в силу ли менталитета народа, неслыханной ли гениальности творцов или «хищного глазомера» царя-столяра — происходил потрясающе интенсивно: не было живописцев, которые обозначили бы своим творчеством переход от Андрея Рублёва к портретистам екатерининской эпохи, авторы ренессансных эпических полотен («Война и мир» Л.Н. Толстого) задыхались в просвещенческих салонах, а виртуозы салонных зарисовок в тургеневском духе посягали на эпос — но, так или иначе, к началу эпохи модернизма культурный разрыв между Европой и Россией сократился с пятисот до тридцати лет, и с этого времени о России и Европе уже можно говорить в одном культурно-историческом контексте.
“Я разочаровываюсь в тебе, Просвещение!” — глаголят с разницей в тридцать лет средний западноевропейский и средний российский интеллектуалы. С этой фразы и началась эпоха, совершенно справедливо называемая «модернизмом», «современностью» — Европа не изжила эту эпоху до сих пор, — и отчасти справедливо — «декадансом», «упадком».
Декаданс был «первой волной» модернизма. Ренессанс приравнял человека к Богу (при этом о смысле такого приравнивания декадент особенно не задумывается), Просвещение возвело прихоти человека в ранг Божьей воли… “Ах, вот ты какая, Божья воля! вот ты какой, мир Божий! — восклицает первый человек новой эпохи — И картины у вас, Божьих людей, такие же, и
Вот и
И сами буржуа привыкли к импрессионизму быстро: буржуа отнюдь не чужд новшеству, ему важно только, чтобы картина хорошо выглядела в интерьере гостиной или спальни, не заставляя обращать на себя слишком много внимания. Творения Камиля Коро и Поля Синьяка справлялись с этой должностью не хуже любого голландского натюрморта XVII века, а стихи Поля Верлена и Стефана Малларме оказались изысканным дополнением к светской беседе. Даже Бодлеру и Рембо нашлось место: «Сатана, помоги мне в тяжёлой беде» не произнесёшь в действительном отчаянии, а вот объевшись рябчиков — почему нет? «Пора плясать, мои красотки — / Вы так страшны» неотносимо к Мадонне Рафаэля или Дульсинее Сервантеса, но отчего не вспомнить этих строк в компании одомашненных богинь Ренуара?
В таком состоянии европейская культура подошла к концу XIX века. В России процессы, обозначенные выше, в 1890-е годы ещё только оформлялись, однако сущность их ничтожно мало отличалась от сущности происходившего на Западе. Пожалуй, единственной чертой (помимо временнóй дистанции), не позволяющей говорить о европейском — в первую очередь французском — и русском декадансе как от вовсе уж идентичных явлениях, было отсутствие в произведениях русских символистов сколько-нибудь выраженной тенденции, которую я предлагаю именовать «бодлеровской»: в России ни один творец толком не посвятил себя созданию дьяволиад, презрению к окружающим людям и воспеванию т.н. «эстетики Безобразного». Разве что Сологуб копнул в тёмное начало человека — но это до него с куда большим размахом осуществил Достоевский; тот при этом не выходил, в отличие от Бодлера, из рамок христианской традиции и императивно применяемого и утверждаемого «красота спасёт мир» — нельзя сказать, что и Сологуб выступил из этих границ. Оно, казалось бы, и слава Богу, оно бы, вроде, и ближе к животворным ключам Ренессанса — ан нет! Не было в России Ренессанса, было долгое-долгое Средневековье, и христианство в России оставалось средневековым. Эпоха Ренессанса была также эпохой Реформации, и одно неотделимо от другого. Средние века — это время господства в жизни человека парадигмы церкви, и Россия шла в ногу со странами Запада. Средневековое сознание не сомневается в том, что человек суть замысел и творение Бога, следовательно, вся жизнь человека — исполнение Божьей воли. И при этом человек не способен сам проникнуть в содержание этой воли — Бог говорит с людьми только через посредника, через церковь. Библия, прочитав и обмыслив которую, всякий может прийти к самостоятельному осознанию бытия Божьего (ergo, исходя из основ Средневекового мировоззрения, — своего собственного) запрещена к переводу с латыни (будто бы латинская Библия сама не есть перевод!) и хранению где-либо, помимо храмов и домов священнослужителей. Человек, таким образом, отправляя религиозный обряд, только повторяет нарратив церкви, и художник, изображая библейские сцены (а рисовать что-либо ещё в Средние века — удел лишь сельских самородков, не претендующих на принадлежность к «высокому искусству»), делает не что иное как иллюстрации к проповедям ксендзов. В этом сущность искусства как любого западного художника Средних веков, так и русских иконописцев. Предел такому состоянию сознания в Европе был положен приблизительно в одно и то же время в сфере общественной жизни и в сфере искусства. Мы имеем полное право утверждать, что Ян Гус, переведший Библию на родной чешский язык и способствовавший её распространению среди простолюдинов, был отцом Ренессанса, а Данте Алигьери, заговоривший — частный человек! — на темы, которые прежде были достоянием одних лишь католических проповедников, да ещё и представив — а как иначе, раз взял на себя ответственность говорить от своего имени? — личный взгляд на поставленные проблемы, да ещё и на итальянском языке — духовным вождём Реформации. Европейские художники начинают изображать священную историю в преломлении своего собственного глаза, вводят себя в библейское повествование в качестве свидетелей и участников описываемых событий — в этом их совершенно протестантская сущность, будь эти художники даже самыми ревностными католиками.
Но то на Западе! — а в России Реформация заглохла, как заглохла и возможность Ренессанса, в монголах, княжеских разборках и Ливонской войне, и не реформированная церковь конституировала средневековое сознание русского человека — в том числе и художника — вплоть до наступления эпохи модерна. Собственно, лишь в «Философии общего дела» Николая Фёдорова да в поздних произведениях Льва Толстого мы впервые встретимся с так и оставшимся неосуществлённым проектом русской Реформации.
Это длинное отступление мы совершили, по слову Чичикова, «не из
Вторая волна модернизма именуется, как правило, авангардом. Это не то чтобы неверное, а попросту ни о чём не говорящее определение: «авангард» означает «передовой отряд», а какое же новое и обозначившее новую эпоху движение не было для своего времени передовым отрядом? Или же «авангард» в контексте культуры следует понимать как
Время есть единственно возможный способ бытия человека, только закруглением своего бытия во времени человек способен создать цельную вещь (в просторечии — «жизнь»), в небытии (в просторечии — «смерть») с тем, чтобы эта вещь была отрицанием небытия. Вне времени не существует человека. Иван Карамазов считал, что если «Бога нет — всё позволено», но куда более внятно звучит фраза «если времени нет — всё позволено», это легко понять даже на бытовом уровне: представьте себе опаздывающего куда-нибудь шофёра — сколь велика вероятность того, что он станет нарушать правила дорожного движения, будь он в условиях достатка времени даже самым примерным водителем! Сколь велика вероятность того, что даже самый отважный человек перед лицом смерти, т.е. в условиях окончания жизни, забудет элементарные принципы чести и проявит себя трусом и подлецом! Идея остановки времени суть идея нивелирования либо прямого уничтожения идеи человечности, а следовательно –идеи человека. Вневременному существованию человек и его мир не нужны — они и неспособны к такому существованию, — зато очень кстати разного рода машинные механизмы, исполняющие волю того, кто остановил время. Идея остановки времени — фашистская идея, и те представители авангарда, которые носят этот титул не по недогляду, а по праву, есть фашистские художники, поэты, писатели. Нужно иметь смелость однажды заявить об этом в полный голос.
Декаданс отступил от принципа изображения в художественном произведении человека; изображения от имени человека; изображения для человека; Человек изображающий и созерцающий либо по-бодлеровски расчеловечились, либо попросту перестали считать человека самым главным в жизни и искусстве: важен стиль, а не тот, кого изображают; важен метод, а не личность художника; важно мнение избранных, «понимающих» в новом искусстве, а не человека, какой он есть и каким предстал перед картиной или книгой, видящего в мазне — мазню, а в болтовне — болтовню. «Так что же вы, ребята, не доведёте свои начинания до конца? — рычит типичный модернист второй волны, он же авангардист — Вот ты, Бодлер, забыл Божеские и человеческие законы, валяешься в наркотическом бреду на дне канавы — но что же это в тебе недостаёт решимости окончательно отречься от звания человека? Вот ты, Моне, рисуешь разноцветную дымку из холста в холст, где-то посреди мелькают человеческие фигуры — а отказать этим фигурам в праве мелькать слабо тебе? Мне — не слабо!»
Авангардистам, которых в литературе часто именуют «футуристами», а в живописи — «экспрессионистами», и впрямь было не слабо довершить превращение разрушенного моральным релятивизмом человека в машину, расплывчатых — в пьяном угаре Бодлера или новаторском азарте Моне, — но всё ещё человеческих лиц — в кляксы и простые геометрические фигуры. «Искусство — по крайней мере то искусство, что известно Европе с Ренессанса — есть искусство изображения человека, но вот искусство и человек развоплотились; их время кончилось, признаем это и остановим часы, — сказал авангард. — Отныне образ человека плотно занавешен чёрным квадратом, и кружочкам с полосками ничто не мешает устраиваться на работу в тот механизм, в который прикажет остановивший время».
В России, как мы уже выяснили, не было декаданса бодлеровского толка, и русский авангард зарождался как такой запоздалый, но оттого лишь более интенсивно «развивающийся» декаданс. «Никто не хочет бить собак запуганных и старых», — сетует Алексей Кручёных. Состарили раньше срока, запугали, бедных, а прибить не решились. Так на же тебе! — «дыр бул щыл убеш щур» — вот что будет теперь вместо твоей потрёпанной войнами и революциями, всё перенесшей шкуры, вместо твоих — таких непозволительно человеческих! — глаз.
На этом я считаю возможным остановить описательную характеристику авангарда — сущность его представляется из вышесказанного вполне понятной, более же подробно анализировать геометрические фигуры — дело не гуманитарного исследования, но математики, наборы звуков, в свою очередь, — фонетики. Тем паче что книг об авангарде написано, кажется, больше, чем о любой другой культурной эпохе — можно обратиться к ним. Я, впрочем, предпочёл бы этим томам книгу Валерия Подороги «Вопрос о вещи», в особенности — последний её раздел: там подробно рассматривается, почему произведений авангарда так мало, а говорят о них так много.
На предыдущих страницах модернизм описан как нечто безрадостное, и к тому же субъективно неприятное автору работы. Сплошное, если вспомнить квазитерминологию, применявшуюся в начале исследования, разочарование, а если поиск — то приведший искателей к обнаружению того, что культура кончилась, и в качестве нового — причём «абсолютного» нового! — нужно обозначить доведение до крещендо старого. Следуя этому пути, авангард претворил продукты дрожащих рук импрессионизма в чёрный квадрат, салонный трёп символизма — в «дыр бул щыл», а драчки декадентов — в похвалу империалистической войне. Ура-патриотические плакаты — пожалуй, главный символ культуры соответствующей эпохи по обе стороны фронта. Большая часть мастеров этого и смежного жанров лепила свои милитаристские шедевры в условиях относительного уюта и спокойствия — то есть сами они дальше пьяных свар с себе подобными не заходили. Но некоторые всё же искренне уверовали в возможность обновления европейской цивилизации войной и в необходимость непосредственного присутствия искусства на полях свершающегося грядущего: немало отважных, так и не успевших разобраться в происходящем деятелей второй волны модернизма — например, целый ряд немецких поэтов-экспрессионистов — погибли на войне. Едва ли эти люди заслуживают осуждения — скорее соболезнования. А были и те, кто выжил. Некоторые из них верили в крещение войной до конца жизни, они так обновляли Европу и на крайнем юго-западе в 1936-39 гг., и на востоке — в 1941-45-м гг. Некоторые же на всю жизнь возненавидели войну и авангард — может быть, их появление суть единственное оправдание того, что свершалось в Европе на восходе ХХ века. Это были новые модернисты — в основном, вышедшие из тех, кто малевал квадраты и травил людей ипритом. Ненависть к тому и другому, осознание того, что произошедшее при их непосредственном участии или, по меньшей мере, на их глазах, — страшный итог существования европейской цивилизации и культуры в последние триста лет, стали основанием их — впервые с Ренессанса такой внятной и продуманной — картины мира. Нового мира.
Первая мировая война стала точкой соприкосновения в сознании европейских интеллектуалов идей получившего разрешение разочарования в старом и необходимого поиска нового. «Кручёных написал “дыр бул щыл» и сказал: «Литература кончилась», — Малевич нарисовал «Чёрный квадрат» и сказал: «Кончилась живопись”. Война погребла и литературу, и живопись, потому что погребла идею человека, которому они нужны: для тех, кого допустимо душить газом, не станут писать стихов и картин. Но я видел всё это и утверждаю: недопустимо — такое отношение к человеку и его миру. И я сделаю всё, чтобы из обломков цивилизации, которая сама разрушила себя отказом от идеи личности своего гражданина, построить новую цивилизацию».
Мы знаем всё о тех, кому принадлежат эти слова. Они творили, как жили, и жили, как творили, они не прятали от Истории лиц и судеб. Мы знаем, что их Сикстинская капелла была создана из отбросов — и не можем не восхищаться их мощью: построить собор из мрамора немудрено — нужен «лишь» талант и усидчивость, но чтобы построить не уступающий ему ни в чём собор из грязи (потому что стараниями предшественников ничего другого под рукой не осталось) нужна вера, которой не могли знать гении Возрождения. Вера в то, что Бог — т.е. проект человека и мира, — уничтоженный новыми фарисеями и не воскрешённый никаким чудом, появится заново, если очень этого захотеть и если звать не только и не столько голосом, сколько руками. «Бога нужно забыть», — сказали декаденты; «Бога нужно убить» — сказали авангардисты; «Бога нужно сделать своими руками», — сказали Маяковский, Хлебников, Платонов, Гарсиа Лорка, живописцы Парижской школы, Филонов, Петров-Водкин, Хемингуэй, европейские левые интеллектуалы 1910-1930-х годов: те, кого я и считаю правильным именовать собственно модернистами. Их стандарты были слишком высоки для взращённых на Рембо и Верлене: мир так и не сумел заговорить на новом, с нуля созданном языке — языке Хлебникова и Платонова, — взгляды героев Модильяни и Шагала оказались слишком пронзительными для вчерашних зрителей импрессионизма, нравственная программа русской и последующих революций показала себя невыполнимой уже для самих революционеров.
«Добро должно быть с кулаками, — утвердили последние — и подлинные! — модернисты, — ведь прежде, даже при декадансе, добро полагалось сутью и смыслом человеческого бытия, императивом, теперь же, после Мировой войны, после чёрного квадрата и дыр бул щыла, его право быть нужно доказывать, за победу добра нужно реально бороться». То есть, разумеется, ещё в народных сказках говорится о «победе добра над злом», но эту победу не следует понимать как торжество восстания: наоборот, что-то взбунтовалось в той или другой области мироздания, один из ангелов восстал против Бога, и нужно его усмирить. «Зло есть отсутствие блага», — говорил Августин, следует заполнить добром соответствующую лакуну — и зло будет «побеждено». В совсем иных условиях творили художники позднего, подлинного модернизма: добро замазано геометрией Малевича, отравлено химическим оружием империалистической бойни — там, где находилась Европа с 1910-х годов, никакого добра не было, вся культура была лакуной зла. Мир XX века оказался манихейским миром, творением дьявола, и дьявол скоро разжал кулак, которым утверждало своё право новое христианство — социализм, — и «падшие демоны» — авангардисты, осознавшие жуть авангарда и ставшие строить собор из обломков, подверглись суровой каре. Русская революция ещё не узрев торжества умудрилась расправиться со своими самыми верными адептами — кронштадтскими матросами-анархистами и тамбовскими крестьянами-эсерами, –забыла язык культуры, слепившей её — революцию — из пепла войны, убила своего главного пророка — Маяковского. Хтонические силы, выпущенные на волю во второе десятилетие XX века, Маяковским и революцией были подчинены человеческому смыслу и направлены на служение культуре; новой культуре. Однако кулак, державший их и до поры питавшийся их мощью, однажды не выдержал и разжался: Маяковского и некоторых других героев эпохи, стоявших ближе всего, разорвало, а все прочие снова подчинились слепой стихии. Впрочем, у культуры сохранялось ещё ощущение глубокой греховности и мерзости происходящего, но никто уже не мог толком объяснить, что же именно и почему происходит. Поколение, последовавшее за Маяковским, — обэриуты в России, сюрреалисты на Западе, — жили и работали уже одним лишь подсознанием, а оно говорило: «Кругом ужас, и чем дальше — тем ужаснее», — но не было больше веры и страсти настоящих модернистов, не было сил и порыва растолковать себе и миру, в чём дело. Вообще говоря, это довольно странно, если обратить внимание на то, что у многих из них — например, у Сальвадора Дали или Даниила Хармса — на упоение этим ужасом сил было предостаточно.
В 1930 году, когда революция уже окончательно победила саму себя и обратилась сталинской империей, застрелился Владимир Маяковский, унеся с собой в крематорскую печь русский модернизм. В 1936 году, в первые дни гражданской войны в Испании, когда хтонические силы, взятые на поруки генералом Франко, совершили последнее движение, разрывающее сковавшую их непрочную оболочку культуры, был расстрелян Федерико Гарсиа Лорка — с ним закончился модернизм западноевропейский. Дальше — небытие, которое никто и ничто уже не сдерживает, воплощается, и не реализовавшийся художник Адольф Гитлер обозначает своей реализацией в качестве фюрера фашистской Германии, что теперь-то уж чёрному квадрату позволено всё. Новая элита ещё пользовалась осколками языка модернизма и революции: «Труд облагораживает», — было начертано на воротах концлагерей, а следовало бы написать: «Дыр бул щыл», –потому что именно этим — набором букв, звуков, номером на рукаве, абстракцией, ничем — были для фашистов люди. Это знают все — и никто не даёт себе работы определить, кто же высказал эти лозунги первыми; все знают, что фашизм был-таки побеждён — и нечасто услышишь, кто же именно и какою силой одержал победу.
Фашизм одолела Красная Армия — армия Советского Союза, наследника великого социалистического, великого модернистского проекта. Этот проект был предан Сталиным, как были брошены им, могущим оказать помощь и о помощи попрошенным, на растерзание франкистам испанские революционеры 1930-х годов. Однако когда вопрос встал о существовании его собственной страны, император быстро вспомнил пафос учения, которому был привержен в молодости. И модернизм не подвёл — идея, выведшая Россию из Первой Мировой войны, принесла победу и во Второй. Это очень простая мысль: «Если сила дурных людей в том, что они вместе, то и сила хороших должна быть в том же самом», — так её сформулировал Толстой, но точно то же самое говорил Христос, тому же учили Ренессанс — новое христианство — и модернизм — христианство новейшее. Не военным могуществом, не властью денег, не прагматичным умом Черчилля или Рузвельта «дыр бул щыл» было стёрто со знамён Европы, но страстью и верой человека, объединившегося с другим человеком ради жизни человечества.
Такова мощь модернизма — он действен, видимо, только когда человек и мир находятся в пограничном состоянии, когда смерть уже подступает к глазам. Так Маяковский был богоподобен в смутные для России и Европы времена, так Красная Армия, по слову Бердяева, «несла щит Михаила Архангела», когда Европа сделалась царствием антихриста. Но самый относительный покой оказался для всех воплощений модернизма непереносимым испытанием: ещё не отгремело последнее сражение гражданской войны — а большевики сделали первые уступки старому строю, и делали их одну за другой до тех пор, пока не отреставрировали империю; бытовые неурядицы, заглушённые революцией, поступательное возвращение жизни в привычное «приличное» русло быстро уничтожили Маяковского.
То был покой короткий и шаткий — двадцатилетняя передышка между Мировыми войнами. Даже этого покоя хватило на то, чтобы модернизм — учение о человеческом величии и человеческом бессмертии — вполне буднично заступил на дорогу всего земного: культура почти умерла, цивилизация начала перерождаться — совсем не в лучшую сторону.
Модернизм поднял голову в последний раз. Он потребовался Европе для того, чтобы ещё раз одержать победу в схватке с абсолютным небытием — а дальше старушка справится сама, что вы, что вы? Европа насмотрелась на величие, хватит: величие модернизма было потребно ей теперь только на то, чтобы сладить с величием, которое всучивал ей Гитлер. Европа хочет жить уютно, ей, как Столыпину, не нужны великие потрясения: одних потрясателей следовало судить в Нюрнберге и уничтожить, другие загнулись сами в мире, где не нужно каждое мгновение сражаться во имя защиты слабого, не нужно всей своей жизнью утверждать бытие Идеала. В 1960 году умер Борис Пастернак, в 1961-м г. — Эрнест Хемингуэй: почти никого не осталось в живых из тех, кто был лицом и сердцем культуры начала XX столетия. Не стало в искусстве образа героя, остался обыватель, наслаждающийся сытой жизнью человека, для которого всё уже у всех отвоевали. Остался постмодернизм с его показами мод вместо левых маршей, бессловесными попевками вместо философских трактатов и рожицами поп-арта вместо человеческих лиц.
Согласно примитивному определению, которое даётся в любом школьном учебнике обществознания, культура есть мир, преобразованный человеком. Но человек погиб на Мировой войне, он своим телом поглотил чёрный квадрат и огонь танков вермахта. А нового человека нет. Маяковский написал ещё в годы Первой Мировой войны: «В 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди». «Потому что красивых убили на войне, а те, кто остался, сделались некрасивыми», — говорил мне по этому поводу в личной беседе Влад Тупикин. Во Вторую Мировую те, кто остались, осуществили нечто более радикальное: они сложили с себя полномочия человека. «После того, как Гитлер позволил себе всё, мы, жители дивного нового мира, тоже можем позволить себе всё: в смысле, отдохнуть у тихой речки можем себе позволить — всё, что нужно, уже сделано, больше ничего не надо, только душевный покой и радости плоти». Так сказал постмодернизм и стал, кажется, первым в мировой истории направлением мысли и искусства, во всей полноте и точности реализовавшим свой проект — ибо просты и несуетны пути его воплощения. Постмодернизм научил человека «не вмешиваться в жизнь» не то чтобы в попытке опровержения, а всего лишь в беспечном забвении той простой истины, что нет человека без его «вмешательства в жизнь», и нет «жизни», т.е. мира, без «вмешательства человека». Авангард воевал с человеком и его миром, постмодернизм осуществил себя в забвении того, что такие в принципе есть. Постмодернизм суть одомашненный, прирученный авангард, прирученная война, прирученный фашизм, которым ничего не стоит «отбиться от рук» или осуществить свой античеловеческий замысел ещё непосредственно в руках «хозяина». Последнее-то и нужно для того, чтобы смертоносная сила не «отбилась от рук» и не обратилась против своего «мастера». Эта сила всегда должна быть в деле, но в деле маленьком, подконтрольном. Победа над авангардом и фашизмом была победой умершего от ран социализма, погибшего в бою модернизма; если теперь начнётся большая война — некому будет выступить против новых варваров. Так что от большой войны, в которой ей самой суждена верная гибель, цивилизация стала откупаться ею же самой разжигаемыми локальными конфликтами, а от откровенного сатанизма чёрных квадратов («чёрный квадрат — это нимб Иуды», — говорил один из героев романа Максима кантора «Учебник рисования») — эзотерикой цветных полосочек и кликушеством т.н. «актуального искусства». Мир зажил без человека, а человек — вне мира: культуры словно бы не стало.
Словно бы! — но ведь культура, как было сказано выше, есть язык цивилизации, и цивилизация способна (
И они объясняются. Язык их — то есть наш собственный, язык ныне живущих людей — создан в безъязыкую, сознательно безъязыкую эпоху постмодернизма небольшим числом печальных одиноких людей, часто не знающих друг о друге и даже не вхожих ни в какую «творческую среду». В то время, как светские персоны, коим по разнарядке выпала обязанность играть роль деятелей культуры, встречаются на раутах и между бокалами дорогого вина ведут учёную беседу о том, кто автор древней, не могущей быть прочитанной и понятой современным человеком оперы «Евгений Онегин» и пьесы того же названия, эти люди — ежечасно ошибаясь, выкраивая время между работой и работой, не заканчивая произведений и не доживая жизней, а порою и сами с трудом вырываясь из трясины раутов и бокалов — создают, несмотря ни на что, свои топорные, корявые шедевры. Не потому, что цивилизация и культура зовут их к этому — второе в качестве языка первого упразднили, и оттого первое уже никого никуда не зовёт, –но просто потому, что не могут иначе. Человек отменил законы тео- и социологии, объявил себя сугубо биологическим существом; что ж! — герои нашего времени принялись за творчество по причинам биологического характера: «Не могу молчать!», «невозможно смотреть!», «сердце болит!», «голова взрывается!» Александр Зиновьев называл субстанцию, условно объединяющую таких «биологических» творцов «реализмом отчаяния». Я уточнил бы: это — МОДЕРНИЗМ ОТЧАЯНИЯ, подобно модернизму Маяковского и Лорки, закалённый болью и ужасом своего времени, выросший весь из нечаянного возгласа: «Но ведь так же — нельзя!» — знающий, что добро должно быть с кулаками — только теперь кулаки эти сжимаются от сознания не мощи, способной раздавить проклятый мир, но бессилия: новый герой в слезах и бесцельной ярости вздымает кулаки к пустому небу.
Модернизм отчаяния — культура, в которой мы живём в настоящий момент. Устами заглянувшего на пиршество постмодернистов русского поэта Шиша Брянского подлинная современная культура обращается к нам:
Хочу сказать вам, братья мои, что я не имею
никакого отношения к этому поэтическому вечеру.
Я встретил бы поэтическое утро, но его в
ближайшее время не предвидится; так что
приходится одному гореть слабым лучиком.
Но это я, конечно, шучу.
Но это я, конечно, шучу, потому что, воздав должное модернистам отчаяния, нужно набраться решимости и создать новый, не облечённый в подобные приставки, модернизм и новый Ренессанс.
Февраль — март 2017 года
Москва
