Егана Джаббарова. Сюзанна
Сюзанна
I
Я не помню, как все началось. Я только помню стягивающее бессмысленное тупое ощущение в правой стопе, так, словно кто-то ее выключил, словно она мне больше не принадлежит и никогда не принадлежала. Со временем почти вся правая нога перестала быть моей, она стала похожа на деревяшку пирата, ты не идешь, ты стучишь, ты раздражаешь прохожих, ты напоминаешь им о конечности. Друзья стали растворяться, как сахар в кружке чая, сначала они заняты, потом они не вспоминают о тебе, потом делают вид, что не знают тебя и не здороваются. Ты становишься одним большим черным пятном болезни, ее грязным мазутом, ее странным ликом, пустой черной дырой, перестаешь улыбаться, перестаешь планировать: у тебя нет будущего времени. Ты живешь в страшном настоящем — в беспросветном настоящем, где боль — единственный индикатор существования, первое «доброе утро» от мира. Каждый день я знала, я ощущала, как беременная женщина чувствует зарождение жизни, кривые пальцы смерти, как искусно и всякий раз неожиданно она выворачивает мои пальцы, мои локти, мои стопы, как перебирает костяшками на моем лице, как душит и хватает меня за шею. Три года я ходила по врачам: в начале трехчасовая очередь к терапевту, потом через неделю двухчасовая очередь к неврологу. Невролог в нашей местной поликлинике вообще не внушала доверия, всегда недовольная, явно с трудом совершающая любое лишнее движение: будь это подпись в документах или осмотр. Всякий раз она говорила, что мне надо больше отдыхать и, не осмотрев, отпускала домой. В тот день это было также, я пришла к ней с онемением и спазмами ноги, я знала, что что-то не так, я чувствовала, будто внутри меня тикает механизм ядерной бомбы. Она даже не подняла глаза, просто дала мне бумагу, на которой было написано, что всё в норме. Через неделю у меня онемела вся правая сторона тела, я не могла контролировать руки, стопы сводило так, что я с трудом могла пройтись. Помню, как лежу в своей комнате и смотрю на плакат со старославянскими буквами (это было задание на первом курсе филфака), смотрю и терплю, пока это было возможно. В итоге мы вызвали скорую, через сорок минут в комнату зашла фельдшер, явно уставшая и спросила, как меня зовут. Я открываю рот и произношу звуки, но слышу странный, непонятный, ни на что не похожий голос, чужой голос, мой голос. Оказалось, что это называется «дизартрия»[1], я лежала в старой разъебанной больничной палате и гуглила «дизартрию», попутно думая о том, что я

II
Мы сидим уже два часа в очереди на ботокс. Тут все высшее неврологическое общество со всего города: куча людей с болезнью Паркинсона [2], с фокальной дистонией [3] (больше всего, спастической кривошеи), ребята с ДЦП [4] и я. Я стараюсь ни на кого не смотреть, просто смотреть в пол, но не потому что мне неприятно, а потому что мне очень страшно, я боюсь, что увижу себя, будущую немощную себя. Наконец, кто-то называет мою фамилию, встаю, собираюсь зайти в кабинет, вижу парня рядом в очень плохом состоянии, он роняет бумаги, я поднимаю. Невольно прочитываю «генерализованная дистония»[5]. Как у меня, — я понимаю, что это «как у меня», что у него то же самое, что и у меня, что он — это я через несколько лет. Страшно. Ботокс мне тогда не поставили, слишком много тела было повреждено. Я вышла из кабинета и пошла на улицу. Там, на обычной грязной улице, вовсю шла жизнь. Кто-то ехал на велосипеде, кто-то ел мороженое, кто-то болтал с друзьями, а я шла и думала «как у меня». В

III
За день до моего двадцатишестилетия мне позвонили из Минздрава. Я стояла в сером холодном коридоре тубдиспансера и ждала результатов флюорографии. Неделю назад автореферат моей диссертации вышел из печати, тогда же стало известно, что у сестры туберкулёз. Всей семьей мы приехали к страшному, голубому дому — областному туберкулезному диспансеру, у входной двери по странному кучковались люди, все старались избегать других, все в безжизненных медицинских масках. В коридоре на серой металлической скамейке сидели ожидающие врача напуганные люди, в этот же момент мне позвонили. Быстрый равнодушный голос сообщил, что 19 ноября меня ждут на госпитализацию в Федеральный центр нейрохирургии города Тюмень на плановую операцию. 22 ноября — защита кандидатской диссертации. Наконец, меня вызвали в кабинет флюорографии: это были самые страшные 15 минут в моей жизни, в голове была понятная логическая цепочка, если у меня туберкулез, я не смогу сделать операцию, если я не смогу сделать операцию, стану немощной, закончусь, растворюсь, распадусь, как части детского конструктора. Туберкулез не подтвердился, но по возвращении домой нужно было решить много разных вопросов. В первую очередь я пошла в университет попросить отпуск без содержания, я знала, что впереди двухнедельный марафон по больницам и врачам, главное — не заболеть, не простыть, ничего не подхватить, иначе в центр не пустят. Я захожу в кабинет своего руководителя и прошу бумагу, как впоследствии выяснилось, кафедра после моего заявления еще долго мусолила эту тему. Самое ироничное, что коллеги почему-то предположили, что у меня болезнь Альцгеймера, к счастью, они не врачи, иначе это бы грустно закончилось для большинства пациентов.
В четыре утра мы с отцом выехали из города, в холодном морозном стекле машины отражались голые культи деревьев, горячие красные зрачки автомобилей, неоновые вывески нелепых придорожных мотелей, страшные оскалы рекламных героев, отец курил одну сигарету за другой, пытаясь замаскировать свое беспокойство громкой азербайджанской музыкой. Мы едем по заледенелой дороге в пустоту, в темное ничто, в неизвестность, в самое сердце экзистенциального ужаса.

Выходим из машины, проходим КПП, получаем белую пластиковую карточку, отпускаем ее в мертвый турникет, получаем зеленый свет и заходим в большой зал регистратуры. В
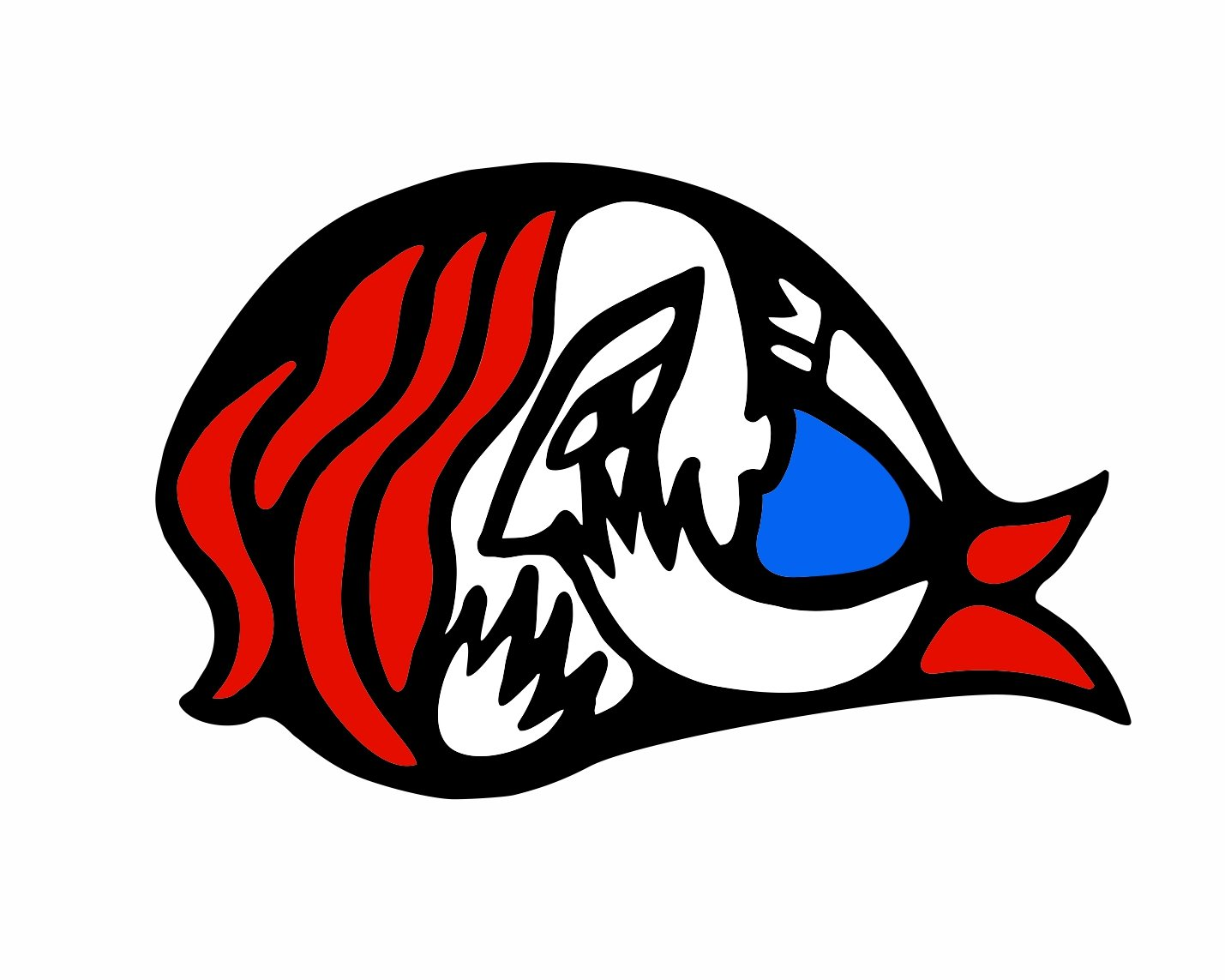
IV
В
Ожидание стало настолько мучительным, что каждый день я совершала паломничество в сторону медсестер и пыталась вынудить у них хоть какую-нибудь информацию, но они, конечно же, ничего не говорили и таинственно улыбались. В очередное больничное ничегонеделание я вдруг обнаружила, что ужин принесли только Лере. Сложив дважды два, поняла, что завтра день Х, не успела я набрать мать, как пришла санитарка и позвала в “тайную комнату”. Там, конечно, не было василиска, но зато всё было в прозрачном плотном полиэтилене, на столике лежали два бритвенных станка и машинка. Я села на стул и закрыла глаза, я была уверена, что я не заплачу, я знала, что волосы сбреют. Заботливая санитарка подшучивала, что она вообще-то парикмахер с огромным стажем, пытаясь вымолить у меня хоть один скупой уточняющий вопрос или комплимент. Внезапно голова стала такой легкой и вместе с тем оголенной, я почувствовала холод и поняла, что это слезы, которые стекают по моей щеке.
Лера десять минут проклинала меня на чем свет стоял, ведь она, неизвестно для каких целей намеревалась снять ролик о том, как меня бреют. Наконец, она сжалилась и предложила посмотреть вместе сериал, в ту же секунду в комнату зашел серьезный грозный мужчина, который быстро выпалил “я реаниматолог, на, подписывай”. Мужик явно очень хотел домой и не особо интересовался моим тонким душевным миром и ужасом от прочитанных возможных осложнений. Получив заветную подпись, он тут же убежал. Я легла на кровать и взяла в руки четки, деревянные старые четки, в которых было спрятано изображение Мекки. Четки эти отдал друг, который вскоре меня возненавидел, так часто бывает, когда человек считал, что ты должен его любить, но только любовь не служит слову “должна”. Я пыталась успокоиться, помолилась, подумала “будь, что будет”, выпила таблетку и легла спать.
Утром меня встретила заводная бригада медсестер, одна из них суровым тоном приказала раздеться догола, что я и сделала. Самоуверенно легла на простыню, готовая нести свое обнаженное тело миру, пока мы совершали победоносную поездку до операционной (меня
Мы идём с нейрохирургом Александром Сергеевичем (Не-Пушкиным) и заходим в комнату, от пола до потолка заполненную белыми коробками, я была без очков, поэтому мне казалось, что вокруг маленькие белые гробики. Одну из коробок он равнодушно протянул мне, для него это было что-то настолько привычное и обыденное, словно мы зашли в макдак за кофе по дороге на работу. Большая инструкция на трех языках, пульт, зарядка, адаптер, два воротника и очень быстрый инструктаж от невролога, которой предстояло рассказать это ещё троим бабушкам. Было несколько важных правил, почти этикетных, например, правило не доставать свои пультики в общественном месте (то есть в общем коридоре), иначе ты случайно можешь выключить или неправильно настроить чужой стимулятор, что, конечно, страшное преступление. Периодически все дружно отправлялись на настройку: дело долгое, поэтому смело можно брать с собой Донну Тарт. Сидишь в окружении прекрасных бабушек и дедушек, как правило, страдающих от болезни Паркинсона, и наблюдаешь за удивительной жизнью медсестер. Большой зелёный папоротник и икона сверху прямо над надписью ПОСТ МЕДСЕСТРЫ. Так сказать, не без божьей помощи. Иду по коридору после очередной беседы с неврологом и вижу женщину, она подходит и спрашивает:
— Это у вас тот самый пультик, да?
Обнимаю ее крепко-крепко и говорю: “все у вас будет хорошо, всем было страшно”.
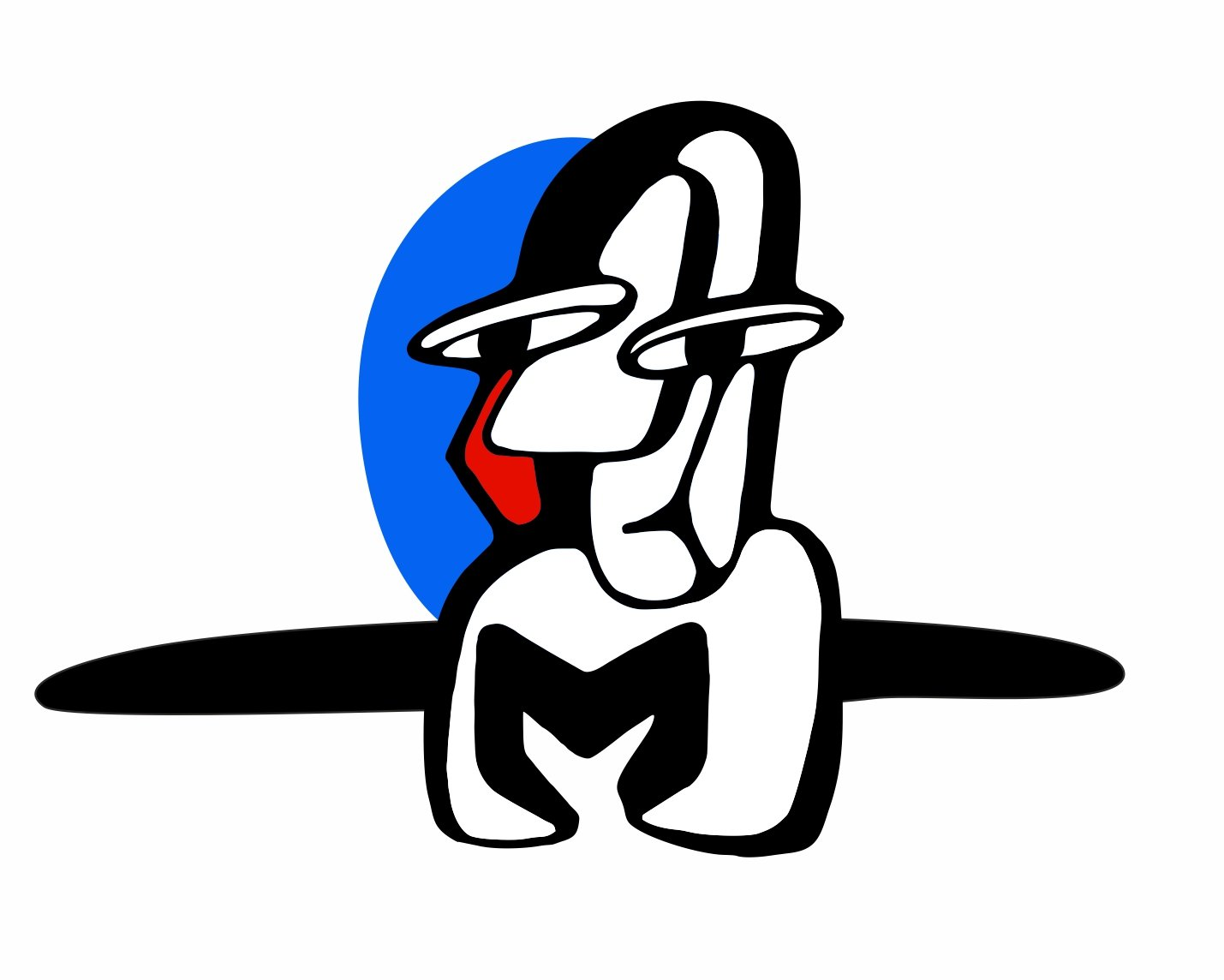
V
Я листаю тиндер, странное место, полностью сконструированное из говорящих фотографий разных людей, настоящий магазин ложных ожиданий. У меня дергается рука (спасибо периодическим хореическим движениям) и я ставлю суперлайк знакомой. Мы знаем друг друга с 2014 года, но никогда не разговаривали по-настоящему, пару раз перекинулись общими фразами в социальных сетях. Самое забавное, что, когда мы виделись на улице, то даже не здоровались, а просто смотрели и шли дальше. И так всякий раз. Наткнувшись на ее фотографию в тиндере, я долго думала, что делать, с одной стороны,я ее знаю, а значит, надо поставить лайк, с другой стороны, она может подумать, что я слишком настойчивая, может быть, вообще удалить тиндер — ровно в этот момент рука дернулась. Через месяц свиданий мы поехали в совместный отпуск, через два стали жить вместе. Пожалуй, только она научила меня счастью, до этого я никогда не была счастливой, в очередную встречу, еще в самом начале отношений, мы сидели в съемной комнате с ужасными желтыми обоями и синей изолентой сверху. К моменту, когда мы встретили друг друга, у меня уже был установлен нейростимулятор, но стоит сказать, что это всего лишь маска: на деле заболевание невозможно остановить, поэтому периодически тремор рук, дизартрия, спазмы, хореические движения заставали меня врасплох. В этот раз случилось то, чего я боялась: начались спазмы прямо на свидании. Я была уверена, что она меня бросит, как говорила моя бывшая “да кому ты нужна такая”. Честно, я верила в это, как в Бога, верила в то, что я никому никогда не буду нужна. Мне хотелось уменьшиться в размере, стать маленькой, ничтожной крупицей пыли на столе. Я уже была готова выйти из квартиры, как тут ты сказала мне: “Сюзанна. Её зовут Сюзанна”. У моей болезни, у моих спазмов, у моей генерализованной дистонии появилось настоящее имя — Сюзанна. Периодически мы пытались представить, как она могла бы быть одета, если бы была настоящим человеком: определенно максимально вульгарно и вызывающе. Красные длинные лакированные сапоги, леопардовое короткое платье, синий полушубок и сигарета в зубах. Она точно из тех, кто своего не упустит, из тех, кто и по яйцам может двинуть, если ее разозлить. Конечно, одно было не изменить: наше общее тело. Мы как сиамские близнецы с общим туловищем, но с разным сознанием. Периодически Сюзанна заходит в комнату и встает посреди всего, чтобы напомнить мне, что она единственная хозяйка этого тела, только она может включать или выключать свет, переставлять вещи, открывать и закрывать окна, только она решает, будем ли мы сегодня спать или будем задыхаться в судорогах, только она знает, в какой момент мне стоит заткнуться. Сюзанна — мой главный друг, мой надежный хранитель секретов и тайн, это женщина, с которой я гарантированно умру в один день, которая знает все мои мысли, все мои страхи, которая никогда-никогда меня не бросит, ни на одну секунду.
____________________
[1] Дизартрия — это одна из форм речевой дисфункции, возникающая в результате органического поражения центральной и периферической нервной системы. Данное расстройство характеризуется нарушением артикуляции, фонации, интонационной окраски и
[2] Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, — прежде всего в чёрной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы.
[3] Фокальная дистония — двигательное расстройство, характеризующееся стойкими или нерегулярными мышечными сокращениями, обусловливающими появление патологических, как правило повторяющихся, движений и/или патологических поз, нарушающих определенные действия в вовлеченных областях тела. Патологический процесс охватывает не более одной мышечной группы. К фокальным формам относится писчий спазм, блефароспазм, спастическая дисфония, спастическая кривошея.
[4] ДЦП — детский церебральный паралич, термин, объединяющий группу хронических непрогрессирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к поражениям или аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном (околородовом) периоде.
[5] Генерализованная дистония — это синдром поражения ЦНС, проявляющийся несогласованными аритмичными изменениями тонуса различных групп мышц. Клинически характеризуется фокальными или генерализованными непроизвольными фиксированными позами или двигательными актами. Непроизвольное мышечное напряжение распространяется практически на всю скелетную мускулатуру.
[6] Deep Brain Stimulation или Глубокая стимуляция головного мозга — метод хирургического лечения, включающий имплантацию устройства, которое посылает электрические импульсы в определенную часть мозга. Стимуляция выбранной области головного мозга приносит большую терапевтическую пользу при болезни Паркинсона, спонтанном треморе, дистонии и хронической боли.
[7] Хорея — синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и жестами, но различные с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные, часто напоминающие танец
[8] Тремор рук — это дрожательный гиперкинез, проявляющийся стереотипно повторяющимися сокращениями мышц кисти. Может иметь первичный характер или возникать под влиянием широкого круга причин, в частности, обменно-метаболического или токсического повреждения, очаговых и диффузных заболеваний нервной системы
Об авторах:
Егана Джаббарова — поэтка, критик, филолог. Родилась в 1992 году в Екатеринбурге. Окончила филологический факультет УрГУ, кандидат филологических наук. Преподаёт русский как иностранный. Публиковалась в журналах «Ф-письмо», «Новый мир», «Знамя», «Вещь», «Гвидеон», «Урал» на портале syg.ma и др. Лауреат премии «Поэтический дебют» журнала «Новая Юность» (2016). Лонг- и
Лёля Собенина — поэт, художник, фотограф, арт-медиатор, организатор и руководитель поэтического объединения «Паеты» (с 2009 года) и проекта «Стихи о
