Взаимное интервью Юрия Григоряна и Сергея Скуратова
5 октября 2017 года состоялась первая встреча из цикла «Пять вопросов: Взаимное интервью» проекта *Аудитория. Согласно правилам формата, сначала герои — Юрий Григорян и Сергей Скуратов — задали друг другу по пять вопросов, а затем желающие из публики адресовали гостям свои. Ниже приведена полная расшифровка этой встречи.

Сергей Скуратов: Мы с тобой два архитектора, которых разделяет не многое, но всё же какая-то разница между нами есть. Она не только внешняя, но и внутренняя, поэтому мне интересно задать тебе такой банальный вопрос: попробуй сформулировать свои основные творческие пристрастия. Что ты любишь в архитектуре? Что такое, с твоей точки зрения, хорошая архитектура? Можно с примерами, можно без.
Юрий Григорян: У меня есть старое соображение на эту тему. С Каплей мы это много обсуждали. Была теория в советское время, что архитектор формируется к 50 годам. Мне недавно исполнилось 52 года, и я просто назначил, сказал себе: «Ты должен уже что-то знать, дальше невозможно сомневаться». Прямо могу сказать, что мы много лет занимались какими-то безответственными поисками. Причина этого очень проста. У нас, по сути, никакого образования нет, и получить его было негде.
Поэтому наша история и история бюро — это история так называемых автодидактов. Люди, которые сами себя как-то образовывают, находясь в потоке.
Также и в МАРХИ образование получить было негде — это было «вращением в среде», где мы что-то узнавали.
Несколько безответственных заявлений я уже сделал в своей жизни, например, на тему «чистой формы». У меня была теория чистых форм, о которой я писал в колонках по просьбе Сергея Ситара и Алексея Муратова. В основном Алексей Михайлович их модерировал. Это было тяжело. В
Сейчас я бы скорее сказал, что архитектура отличается по некоторому запаху. Я это вчера понял, когда мы с нашим магистром Лёней Баталовым раскладывали на столе странные детали из пенопласта, которые периодически складывались в композиции. Вот ты так их положил — вроде архитектуры нет. А вот так положил — и вот она возникает. Это открытие стало для меня невербально. Я стал отделять архитектуру от политики: последняя требует вербализации, ты о ней должен разговаривать, а архитектура ее не требует. Она либо есть, либо ее нет. В этом смысле она многозначна. Ты можешь находить архитектуру в совершенно неожиданных местах. Она возникает где-то — и тогда ты можешь ее себе забрать. Я бы даже сказал, что замечательно было бы ее украсть. Я не вижу в этом совершенно ничего плохого. В общем, это запах, который содержится прямо в формах и в зданиях.
Я в
На сегодняшний момент два года, которые я провел после 50, привели меня примерно к таким умозаключениям. Хотя сейчас все как дети: размываются границы возрастов, больше нет акмэ — взрослого человека. Поскольку ты учишься всю жизнь, то самое интересное, что ты всю жизнь будешь узнавать новое, и будет какая-то новая теория. Поэтому я бы не сказал, что есть что-то, что надо обязательно на щит воздвигнуть и с этим ходить.
*
ЮГ: Вопросы, которые я написал — это вещи, которые я всегда хотел тебя спросить. И так как мы мало разговариваем, это то, что мне очень интересно узнать. Когда Сергей Гришин в 1999-м году нас с тобой знакомил, он дал такую рекомендацию: «Вы неопытный еще архитектор, молодой, а Сережа — совершенно потрясающий методист. Обратите внимание, как он работает». С тех пор, когда прихожу к тебе, все время думаю: «Как он работает? В чем его метод?»
Помню, ты говорил, что один свой проект ты «вышагивал». Ходил, ходил где-то ногами, и в процессе этого что-то «вырисовалось». С одной стороны — это «метод», с другой стороны, ты берешь в работу не первую идею. Я вижу степень подробности того, что ты делаешь. Для проекта Софийской набережной твое бюро сделало 15 вариантов фасада, по 40 рендеров (всего 600 рендеров) — и все эти варианты были полноценные, архитектурные, придуманные композиции фасадов. Это уму непостижимо — и по количеству, и по методичности работы. Я тебе хотел простой вопрос задать. Как ты работаешь? Как ты это делаешь?
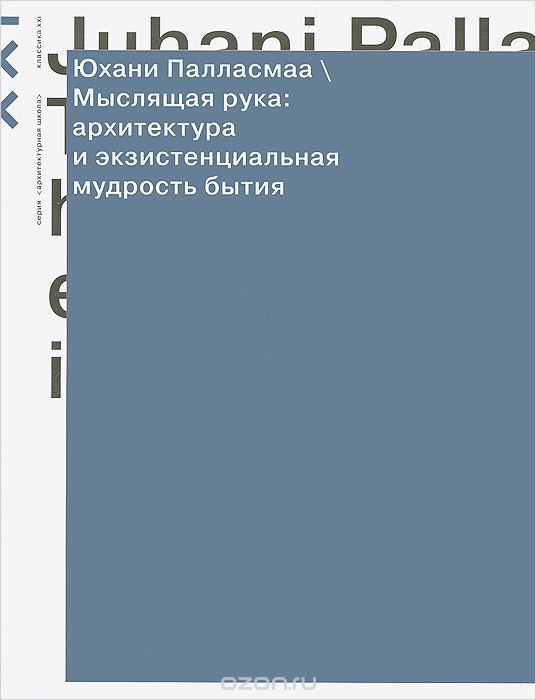
СС: Да, тезис о том, что мы думаем об одном и том же, и что будем задавать одни и те же вопросы, подтверждается. Потому что у меня этот же вопрос тоже есть, немного в другом ключе… Я не могу до конца сказать, почему Сережа назвал меня методистом. Ведь методист — это человек, который имеет проверенную методику, которая в любом случае должна дать некий положительный результат. Но проблема заключается в том, что, когда я начинаю работать, как, наверно, и любой другой архитектор, то не знаю, что получится. У меня никогда нет заготовленного образа. Он мне не видится во сне, не приходит в результате усиленных рисований: когда берешь лист бумаги и усиленно думаешь с карандашом в руках — это как говорил Юхани Палласмаа, его «Думайте с карандашом в руках».
Этого всего у меня нет. Что у меня есть — это «наркотическая зависимость» от создания нового. Когда мне предлагают что-то придумать, я в этот момент превращаюсь в другого человека. Работа, в которой ставится задача с другой степенью осмысления и другим уровнем философского отношения, а не требуется готовая стандартная идея, всех удовлетворяющая или лежащая на поверхности, — это для меня вызов. И он делает меня совершенно иным человеком. По аналогии с человеческими чувствами это можно сравнить с влюбленностью. Но при влюбленности у тебя есть персонаж, который тебя очаровывает, возбуждает и заставляет все жилы, кровь, мозг, глаза, сердце биться по-другому, существовать по-другому — ты мобилизуешься. А меня дико мобилизует этот вызов. Когда мне дают задание создать новое, я становлюсь как главный герой из фильма («Области тьмы» — прим.), принимавший таблетки, которые ускоряют деятельность мозга. Поэтому я очень люблю вызовы. Но по жизни их очень мало, к сожалению.
Мне каждый раз хочется дойти до другой точки. Поэтому людей, находящихся вокруг меня, я своей энергией или энергетикой поражаю как вирусом. Они тоже становятся очень работоспособными, загораются идеей. Я говорю им: «Ребята, надо сделать что-то абсолютно выдающееся, чего до этого никто не делал» — таким образом, мобилизуя их совесть. Я собрал вокруг себя людей с амбициями.
Все эти многократные варианты — как раз и есть поиск чего-то абсолютно совершенного. Поэтому уже неважно: 20 рендеров, 30 рендеров, тысяча, день или ночь. Важно то, что они приближают тебя к точке, в которой чувствуешь, что тепло, как в игре «холодно — горячо».
В работе это может быть очень мучительно для сотрудников и даже для тебя самого. Ты всеми всегда не удовлетворён. Мы все несовершенны. Я себя чувствую очень несовершенным человеком, но желание сделать что-то абсолютно совершенное выматывает и съедает. От меня многие архитекторы уходят, потому что им кажется, что все классно, а я говорю, что все надо заново делать. С Антоном Барклянским мы десять раз переделывали третий квартал в Садовых кварталах, и много вариантов Пермского театра он нарисовал. Все было замечательно, но я все равно понимал, что это все не то! Это как раз то, о чем ты говорил: нужна такая форма или образ, из которых уже ничего нельзя убрать. Как эстонцы говорят: «меньше не имело смысла». Я к этому всю жизнь стремлюсь — чтобы это была абсолютная поэзия, даже могут быть какие-то неологизмы, но из неё не выкинешь ни одно слово: поэзия, а не роман.
ЮГ: Хорошо. Ответил абсолютно. Задавай вопрос.
СС: У меня похожий вопрос, я же не знал, какие ты мне будешь задавать.
ЮГ: Я тоже не знал.
*
СС: У меня был смешной вопрос. Расскажи о своем творческом методе. Как ты работаешь? Что для тебя главное, что второстепенное? И как ты выстраиваешь взаимоотношения с коллегами и заказчиками? И самый интересный вопрос: как ты добиваешься хорошего результата?
ЮГ: Можно начать с последнего: хороших результатов мы не добиваемся пока, но думаем, что когда-то хорошие результаты придут.
Раз вопрос фактически такой же, то я постараюсь примерно на тот же вопрос и ответить.
Для меня главной стала физиологическая сторона проектного процесса: в какой ты форме. Я стал понимать, что если у тебя недостаточно энергии в
Вторая вещь — это то, что можно назвать софтвером, компьютерной программой. Тебе надо сделать софт для каждой задачи или использовать программу, и желательно каждый раз новую, потому что если ты всё время пользуешься одной, то у тебя будет получаться одно и то же. И тогда ты подготовил специальное оборудование (если ты можешь его подготовить) и надо после этого достаточно накачаться, напитаться вопросом, чтобы было понятно что, собственно говоря, ты делаешь.
В сочетании этих двух факторов в один момент у тебя это может как-то получиться.
Сегодня (когда-то это было не так, все постоянно меняется) критерием оценки служит существование понятной истории о том, что ты делаешь, которую можешь рассказать в
Здесь надо сказать, что «Меганом» в значительной степени изменился. Нас четверо: Лена Угловская, Артём Стаборовский, Илюша Кулешов и я. Чем дальше, тем больше мы стараемся в бюро развивать диалог. Первый опыт был у меня с Пашей Иванчиковым, когда мы в девяностых годах сидели вдвоём в подвале и вместе придумывали.
Диалог с человеком — это один из методов. И в процессе него ты можешь разогнать энергию лучше, чем один. Это важный инструмент, которым можно пользоваться.
Мой вопрос к тебе про методичность касался в большой степени того, как сохранить энергию до конца. У нас, например, завелись проекты длиной в жизнь, до 2025 года. Как его делать 10 лет? Как ты можешь вообще сохранять эту энергию? Предположим, есть момент порождения проекта, потом он от тебя чего-то требует, а потом «живет» рядом с тобой в одной комнате. И ты уже думаешь: «Ну сколько можно!» А он опять что-то требует. Ты должен каждый раз себя на подвиг возгонять. Может быть, надо всё равно разбивать проекты на маленькие достижимые задачи и их достигать. Длина проекта теоретически истощает. Это совершенно другой вызов, с которым мы никогда не сталкивались. Такая природа проектов, которые надо поддерживать во времени, искать в этом смысл.
*
ЮГ: Задаю следующий вопрос, который тоже давно хотел спросить. Скажи, в архитектуре, где твои корни? Откуда это всё происходит?
Например, фигура Ларина Александра Дмитриевича. Она была для тебя в большой степени важна. Если считать традицией, что ты должен в ранние годы поработать с мастером, то он фактически единственный мастер, с которым нам удалось поработать — мы один проект с ним сделали. Но у тебя с ним было общее бюро. Потом, я знаю, была веха, когда ты ушел к Киселёву и в 2002 году сделал свое бюро. Чем для тебя было образование? Где ты видишь свои непосредственные корни? Может быть какие-то связи, которые у тебя есть с МАРХИ. Интересен период твоей карьеры, когда ты работал свободным художником: ты работал в
СС: У меня первый опыт работы был до того, как я почувствовал свои корни и их обрел. Можно сказать, что я начал функционировать как бескорневое растение. Мне категорически не повезло с преподавателями — я мало чему научился в институте. За десять лет преподаватели по живописи, графике и истории искусств в Краснопресненской художественной школе научили меня большему. Институт — это коллективное самообразование. Это скорее история постижения каких-то там запахов или связей и вообще понимания — в какую профессию ты попал. Я поступал в институт, не понимая чем буду заниматься. Я в школе хотел быть художником, или скульптором, или книжным графиком, или живописцем. Я очень любил писать маслом и акварелью. Мне это помогало первые институтские годы.
Мой диплом был абсолютно неосознанный — это был футуристический проект. О нем неинтересно рассказывать. Хотя меня с радостью взял на работу замечательный архитектор Марк Бубнов в институт ЦНИИЭП Мезенцева. Но я быстро заскучал. Мне не хватало реальной жизни, реальной работы. Там были хорошие наставники. У меня был замечательный главный архитектор проекта Эльмир Борисович Тер-Степанов. Мы с ним вместе делали пансионат «Золотой пляж» в Ялте. Его так и не достроили. Я его делал три года. На этом я сломался, потому что мне было страшно скучно. Вокруг меня сидели люди, с которыми у меня была разная шкала ценностей.
Хотя Марк Бубнов научил меня работать. Он сказал, что архитектор должен работать, не щадя живота своего. Поскольку он был абсолютный трудоголик — он уходил с работы где-то в час ночи. И чтобы не ударить в грязь лицом, я тоже работал рядом с ним.
Первой нашей работой в компании нескольких архитекторов был клуб «Что? Где? Когда?». Он начинался как дом молодежи Красной Пресни. В нем мы сделали все, что умели делать руками: витражи, бетонные стены, металлические ступени, варили балконы.
Образование началось потом, постепенно. Я ушел из ЦНИИЭП Мезенцева на
ЮГ: Это какие годы?
СС: 1982, 1983, 1984. У меня в 1984-ом сын родился. И я кормил его, качал и одновременно делал международные конкурсы — Дэфансы, Бастилии, Ля Вилетт. Надо было зарабатывать на жизнь, поэтому я очень много рисовал, продавал свои работы. Я даже был преподавателем в детской студии. У меня трудовая книжка лежала во Всероссийском хоровом обществе, которое делало музыкальные инструменты. Я делал какие-то календари. Это была целая история, позорная, наверное, для архитектора. Потому что я в
В это время я стал увлекаться архитектором Джеймсом Стирлингом. Я стал самостоятельно изучать все его работы. Приходил в библиотеку, накладывал кальку, пытался разобраться в его формотворчестве, формообразовании, в логике, философии. Мне это, как казалось, удавалось.

Потом я сильно «заболел» греческой архитектурой — изучил все греческие агоры, стал искать отличия, например, греческой архитектуры от римской. Я понял, что ненавижу симметрию — что я такой идеальный мир и порядок не приемлю. Для меня это было открытием. Я никак не понимал, почему я не люблю симметричные вещи и классическую архитектуру. Просто органически не люблю. Люблю динамику, асимметрию. Знаете, люблю бильярд! Потому что в бильярде можно так ударить по касательной, что и твой шарик летит не в ту сторону, и другой тоже летит в другую. Это, как мы говорили потом с Сережей Гришиным, игра в распасы, как в картах.
Вся эта эпопея закончилась тем, что у меня были небольшие заказы. В 1980-е годы банковский бизнес еще не начался. Потом была замечательная поездка на корабле, когда мы выиграли Гран-при с Мишей Лабазовым и группой иностранных товарищей. Там я и познакомился с Адрианом.
А потом совершенно чудесным образом жизнь меня столкнула с Лариным. Меня с ним познакомил Коля Белоусов. Я пришел, принес гигантское свое портфолио, состоящее из кучи международных конкурсов, графических работ, акварелей, рисунков. В общем, Ларин меня взял в ЦНИИЭП Мезенцева. И дальше у нас была семилетняя эпопея: совместные работы, конкурсы, почти совместная жизнь. Видимо, Александр Дмитриевич во мне что-то увидел, какого-то единомышленника, человека, который так же страстно относится к своей профессии, к своему делу. Он меня старше на 20 лет, но мы вместе работали как два абсолютно равноправных архитектора.
Он привил мне любовь к архитектуре в абсолюте. Научил меня, что надо любить то, что ты делаешь, надо вкладываться целиком.
Когда ты любишь и вкладываешься — и ты делаешь это осмысленно, то потом будешь защищать.
Когда мы воспитываем своих детей, любим их, то потом их защищаем во всех обстоятельствах, даже когда это не зависит от нас.
Это была пора профессионального взросления, которая закончилась получением гран-при на международном конкурсе на возрождение Самарканда. В начале 1990-х годов начались знаменитые банковские годы. Мы с Лариным уже разошлись.
Но вот этот дух места и точное попадание в него, выстраивание очень тонких, почти неуловимых связей с окружающим пространством, со временем. Я бы сказал, почти хирургическая филигранность построения геометрии пространства — как дом стоит, на что он реагирует, его размеры, как он пропускает сквозь себя время, как общается с окружающим пространством. Какую форму найти, какой материал. Это всё выращено Лариным во мне. У нас иногда были жесткие дебаты. Мне все время казалось, что я его немножко грубее и жестче, и селекция от всего лишнего во мне была сильнее. Я в
ЮГ: Романтичного?

СС: Да, романтики какой-то. Наше любимое совместное дитя — немного греко-римский кинозал в Кисловодске, напоминающий поиски Леона Крие. На нем мы породнились.
А потом и мир, и стили стали меняться, слава Богу. Я начал стараться очиститься от «стирленговского» постмодернизма. Это было очень тяжело. Я перешел к Сереже Киселёву — как раз тогда произошло постепенное очищение. Я понимал, что этот язык не способен взаимодействовать ни со временем, ни с теми задачами, которые возникли перед нами. Здесь произошла плавная метаморфоза, которая связана с поиском себя. С 1995 по 2002 год происходил поиск того, что любишь в то самое время. Что для тебя важно и ценно. У него я построил свой первый дом в городе — многофункциональный центр на Селезневке, который задумывался в постмодернистском варианте с руинами. В процессе стройки он стал более конструктивистским, выхолощенным. Уже на сделанном фундаменте мы срубали детали. И дальше был дом в Зубовском бульваре и так далее.

В 2002 году я уже был готов сделать собственную мастерскую. Боря мне заказал первую работу — пятый Бутиковский, когда я еще у Сережи Киселёва работал. Но период очищения тогда еще не закончился, потому что пятый Бутиковский очень эклектичный, сложный и многословный.
Сейчас бы я все сделал по-другому. Этот пубертатный период развития во мне продолжается и по сей день. Потому что все идет к абсолютному такому, не скажу выхолащиванию, но к поиску самой простой, самой идеальной формы.
Во мне продолжается болезнь, — мономатериальность — которой я заболел с проекта Cooper house. Я

*
СС: Что в тебе изменилось за последние 10 лет? Это вопрос о целях, задачах и приоритетах. Вот два человека: Юра Григорян 2007-го и Юра Григорян 2017-го.
ЮГ: Десять лет назад, в 2006 году, мы начали преподавать в МАРХИ. Для меня, Капли и, я надеюсь, для всех это было большим изменением. Потому что у меня отношения с МАРХИ складывались примерно так: после диплома я чуть не сошел с ума и не мог проезжать под землей на метро под станцией «Кузнецкий мост». (Смеются). Я только пешком мог обойти институт. Проехать транзитом не мог. Это проблема была, потому что не так много путей — а кроме метро никакого другого не было вида транспорта. Ещё я не читал некоторое время. Года три я не мог видеть печатный текст, чек не мог прочитать в магазине.
В 2006 году Оскар Мамлеев и Андрей Некрасов затащили нас обратно в МАРХИ. Для меня это было огромное изменение. Я туда вошел первый раз за 16 лет, с 1990 года. Мы поняли, что надо возвращать. Видимо, так работает наша европейская этика. Наша с тобой беседа в «Аудитории» — это часть процесса возвращения.
Еще большое изменение было в 2010 году с открытием «Стрелки». Это часть этого же процесса. «Стрелка» не должна была быть: вместо нее должна была появиться частная архитектурная школа. Если бы не Илья Ценципер и его умные друзья, тогда, скорее всего, получилась бы реинкарнация небольшой архитектурной школы.
В Гонконге нам вместе с OMA за два часа нужно было придумать все темы для исследования, формат новой школы, основные положения, как программа будет делаться. Это немного встряхнуло. Рем Колхас и его ребята совсем ничего не боятся. То есть для них проект школы — это легко! А мы этой культуры лишены. Я в OMA не поработал. В отличие, например, от
Это было большое изменение, потому что я был вынужден покинуть ядро профессии надолго, хотя я в нём вроде был — мы продолжали делать проекты. Я четыре года был в «Стрелке» в разных ипостасях, с 2010-го до 2014-го, по убывающей. Думал, что больше года не должен проработать, но идея была в постоянной ротации и изменении. Тем не менее мне пришлось там задержаться.
Вот это было достаточно большое изменение, которое вернуло меня обратно в ядро в 2014 году настолько осознанным, что до этого я не понимал, где находился.
Как я попал и в МАРХИ тоже. Удивительно, сколько похожего. Я если бы тебя не спросил о корнях, не догадался бы. Я тоже думал почему-то в детстве, кем мог бы быть. Это, видимо, часть советской культуры. Кем ты мог быть — мог быть пожарным, фрезеровщиком или художником. Там не было другого чего-то. Например, все, кто шли в художественную школу, были художниками, я и не мог им быть. Поэтому я в эпицентре архитектуры оказался случайно. «Стрелка» помогла мне оттуда выбраться на время. Посмотреть на это с другой стороны, начать разговаривать о других вещах. Сейчас, вернувшись в ядро, я в нём нахожусь с большим удовольствием. Я знаю, как из него выйти, но в данный момент не хочу.
*
ЮГ: Мой вопрос. Твоя настойчивость и бескомпромиссность, которую я наблюдаю периодически воочию, и война за архитектуру — это один из примеров, который меня вдохновляет, честно говоря.
Я очень мягкий человек по природе и склонный к компромиссам, но и я стал понимать, что без этой войны, без страха заказчика перед тобой… Я смотрю, они тебя боятся. Я об этом не думал раньше, потому что у нашего бюро с заказчиком все время были партнерские отношения. Мы с ним разговариваем, вовлекаем, он становится соавтором, поэтому это ему интересно. Я увидел, как ты воюешь с заказчиком, и как он тебя боится так, что у него прям трясутся руки. Он готов отдать 100 миллионов рублей на
Это вот такой героизм, он как диагноз. То есть мы должны за
СС: Я не всегда таким был, абсолютно точно. Я был очень мягким человеком, милым, добрым, уступчивым, и в классе я был тихим. Когда появились необходимость и бесстрашие бороться за результат? Я думаю, что это произошло, когда я начал работать с Лёней Казинцом на «Баркли».

ЮГ: Да, это стоило того!
СС: После того, как мы с Борей построили пятый Бутиковский и Cooper house, появился Лёня и тоже захотел, чтобы в его огороде что-то приросло с моим участием. Он был человеком абсолютно авторитарным, он стал на меня давить и прессовать — впервые в моей профессиональной жизни. Потому что все объекты с Сережей Киселёвым шли при абсолютном диалоге с заказчиком.
Про Борю я даже и говорить не могу, потому что это были бесконечные, на всю жизнь запомнившиеся часы диалогов. Сложные, но это были диалоги. Он нас немножко «обыгрывал», потому что он был большой хитрец, он таким и остался. Он как-то почувствовал, с кем он имеет дело и вовлекал нас во всю эту историю.
А Лёня мне стал мешать делать красивую вещь — осмысленную, законченную.
Это же был выход на свет. До этого мы все время делали что-то в маленьких переулках: получилось, не получилось — никто не знал. А тут — это набережная. Это здание. Очень серьезная, ответственная работа во всех смыслах. Нащупалась, наконец, тема скульптурности, мономатериальности, тема истончения фасадов, тема растворения в реке, разности материала — очень много всего было. Я привлек на работу совершенно замечательного архитектора — Лёшу Медведева, и Никита Демидов был еще на этой работе. Мы очень много времени тратили. И я стал замечать, как он (Лёня Казинец — прим.) это всё потихоньку начал уничтожать. Говорит — мы это всё делать не будем. На проекте это было хорошо, а когда началась стройка, он стал потихоньку всё это уничтожать. Тут я взревел, как раненный бык. Я не мог этого допустить, потому что уничтожали моего родного ребёнка. Это было настолько выстрадано, физически — дни, ночи, такая трудоёмкая работа. Мы оттачивали эту композицию.
Видимо, это что-то уже в характере. Я стал ему хамить, ругаться, вообще сказал, что я не дам тебе, сволочь, ничего испортить. Мы с ним ругались. Меня даже на стройку перестали пускать в конце. Он стал всё портить. Тем не менее, мы вопреки всё делали. Результат получился, конечно, плачевный: не удалось реализовать то, что мы хотели. Потому что в задумке было абсолютно другое.
Вот знаешь, я этот вкус крови тогда немного ощутил. Я
Мало сказать — нет, так нельзя. Надо сказать, как надо, объяснить и показать.
Я ходил на стройку и объяснял рабочим — как надо строить, как надо делать. Я не знаю, откуда это знал. Наверное, опыт с Борей, очень позитивный и очень серьёзный (всё-таки сложные были дома), меня многому научил. И я их образовывал, рассказывал им. Рабочие на этой стройке меня очень уважали.
У меня был как бы антагонист один — Лёня Казинец, а все остальные были на моей стороне. Я понял, что в
ЮГ: А превентивные удары ты наносишь? Приходит новый заказчик, и, мне кажется, он уже тебя боится. Правильно? Ты уже не ждешь, пока он проявит свое экономное капиталистическое нутро. Ты его сразу — вот вошел к тебе в кабинет, ты дверь закрываешь и всё…
СС: Нет. Я хитрю. Я вначале такой очень профессиональный. Я ему говорю, вот ты знаешь, я тебе сделаю что-то, что тебе очень понравится, и что даст тебе максимальную прибыль, я знаю, как это сделать.
ЮГ: То есть ты про деньги ему тоже говоришь.
СС: Конечно. Я начинаю разговор на его языке.
ЮГ: «Все будет хорошо. Недорого. Красиво».
СС: Отлично, ты не потратишь лишних денег. «Недорого» — не в смысле как цена проектирования.
ЮГ: Понятно, цена проектирования высокая, а стройка недорогая.
СС: Ты нанимаешь очень серьезного профессионала. Я тебе сделаю все, что надо. У тебя будет идеальное качество. Я знаю, как все углы сделать. Я даже знаю, как сделать оптимально, как сделать красиво, как сделать грамотно, чтобы все это понравилось. Я все это ему рассказываю — лапшу на уши вешаю. Но я действительно знаю.
ЮГ: И тут ты ему наносишь, наконец уже…
СС: Но потом я ему говорю — есть одно маленькое условие. Мне нельзя мешать. Мне можно только помогать. Поэтому если вы хотите со мной спорить, давайте спорить на очень серьезном высоком уровне. Серьезный разговор, если вы что-то понимаете в архитектуре. Вот я, например, точно в деньгах ничего не понимаю, поэтому я не буду вам советовать, как выстраивать свой бизнес, как брать кредиты и так далее. А в архитектуре — давайте я буду.
Вы можете со мной говорить о технологиях, о функциях, допустим. Может быть, у вас есть какие-то советчики. Но каким должно быть здание, я лучше вас знаю.
С Андреем Гриневым на «Арт хаусе» это сработало. Он пришел и сказал: «Вот есть Copper House, а я хочу, чтобы дом, который ты мне сделаешь, затмил Copper House, чтобы это было что-то другое». Я говорю: «Андрей, тогда не мешай, ладно?» Он говорит: «Нет, я не буду лезть в это. Ты чего, как я вообще с тобой буду работать — нет, конечно. Не мешаю». Все.
ЮГ: Хорошо, задавай вопрос.
*
СС: А у меня очень вредный вопрос. Вот существует профессиональный цех. Он большой, разный. В какой части этого профессионального цеха ты себя ощущаешь?
Есть наиболее близкая часть к власти, которая может с ней сотрудничать, поддерживать ее политику. Или можно сотрудничать только по необходимости, чтобы делать интересные проекты, использовать свою популярность и востребованность для благих дел или получения заказов. Можно совсем не сотрудничать с властью, а только с частным бизнесом. Это вопрос о выборе места, о гражданской и жизненной позиции. Какие у тебя есть принципы? Это вопрос о формуле профессионального поведения.
ЮГ: Я до сих пор себя не чувствую принадлежащим ни к какой части цеха. Если ты имеешь в виду наш московский архитектурный цех, то ни к какой.
Есть невыраженное сообщество архитекторов: какое-то количество людей, которые мне интересны, и я их пригласил бы на такое интервью. Не факт, что я им также интересен, и они бы согласились. Их существование греет. Это очень важные люди, которые работают в профессии. Я вижу, что многие из них в той или иной степени чуждаются коллективных действий. Они этим не занимаются.
История сотрудничества с властью — это древний вопрос. Мы видим, как архитекторы вынуждены делить свою политическую и профессиональную деятельность. Например, архитектурные «звезды» критикуются леваками за то, что строят в Дубае, Китае, Казахстане и России, то есть в недемократических странах. Но они продолжают в них строить.
У меня был интересный разговор с Ханни Рашидом на эту тему в
В России вертикаль заполняет собой фактически всё. Я задал тебе вопрос (вопрос про борьбу с заказчиком — прим.), на который отчасти знаю ответ, потому что знаю твою позицию и уважаю. Ты сохраняешь большую часть независимости с помощью своего профессионализма.

Я тоже сохраняю часть независимости. Но когда мы участвуем в таких проектах как
С моей точки зрения, ситуация, в которой мы находимся, невозможная, потому что мы все тогда вынуждены делать тот выбор, который мы делать не должны. Нас всех нельзя ставить в ситуацию, когда мы должны промолчать вместо того, чтобы сказать. Получается, что промолчать — это то же самое, что поддержать.
Я недавно услышал от одного чиновника совершенно фантастическую, замечательную фразу. Он сказал: «Вашего молчания мне уже недостаточно». То есть надо выступать со словами поддержки. Я сказал что-то вроде: «Ой, у меня молоко убежало! Я сейчас должен срочно обдумать ваши слова и понять, что вы имеете в виду». И
При этом есть одна важная вещь. Ни в коем случае нельзя делиться по принципу «мы и они».
Если кто-то сделал что-то хорошее, то ты должен об этом тоже говорить. Мы мало хвалим друг друга, потому что считаем, что из этого стана не может произойти ничего хорошего. Это тоже не продуктивно. Водоразделы совершенно в другом месте начинают происходить сейчас. Есть те, кто борется за качество происходящего, а есть те, кто не борется. Тогда люди должны объединяться по этим интересам вне границ.
Я не считаю, что все, что делает Московское правительство, плохо. Я знаю, что интересные мне люди критикуют платные парковки. Я не могу понять, как они это делают. Я считаю, что то, что делает Департамент транспорта, — это исключительно интересно, важно и продуктивно. Невозможно это не делать.
Если мы все будем расцениваться через призму информационной угрозы, то мы ничего хорошего не сделаем. Свидетельство этому — все проекты, которые делаются с менталитетом государственных денег. В них столько бюрократии, что сложно добиться качества. А если его нет, то в чем, собственно говоря, проект?
Это сложный момент для нас для всех, потому что в каждый момент ты делаешь какой-то выбор. Мне кажется, что мы могли бы этого избежать.
Есть вещи, которые нас объединяют. Например, проект «Москва-река», ее очистка — это консолидирующий момент. Как Вернадский говорил: «Здесь нужна гигиена мысли». Надо о хорошем больше говорить, и тогда это как-то само куда-то пропадет.
*
ЮГ: Я знаю, что ты смотришь интернет и другие издания. У тебя огромная библиотека в совершенно фантастическом порядке. Это что-то! Я еще помню их в старом офисе, в новом они у тебя тоже в таком же порядке. Все номера журналов, которые там расставлены. Я знаю, что ты смотришь другие издания, изучаешь архитектуру через интернет. Я хотел спросить про источники твоего языка. В какой степени твой язык подвергается влиянию?
Вот ты смотришь много. А Александр Бродский считает, что лучше вообще ничего не смотреть и ничем не интересоваться, тогда, по крайней мере, у тебя вирусов не будет. Не получится так, что ты изобрел случайно то, что ты увидел достаточно давно. У памяти есть такое свойство, что новое — это хорошо забытое старое. Если ты видел это давно — ты можешь это переизобрести.
С другой стороны, архитектура делается из самой архитектуры. Тогда чего бояться? Наоборот, распахиваешься, открываешься всем вирусам, впитываешь в себя всё, что происходит, и знаешь просто всё. Потому что незнание оно тоже не освобождает от ответственности. Получается, ты просто не знал и в этой плотной уже информационной атмосфере самостоятельно изобрел то же самое, что уже было построено. Вот как ты с этим обходишься?
СС: Я смотрю, потому что мне интересно. Я давно подсел на информационное поле. Помимо журналов в последнее время я смотрю Pinterest. У меня даже есть там своя страничка, свои папки, в которые я знаю, залезают очень многие…
ЮГ: А страничка у тебя открыта? Не под замком?
СС: Да.
ЮГ: Я тоже позалезаю.
(Смех в зале).
СС: Да, ради Бога! Я в
Для меня всегда знания были в
Все равно дом, который я рисую, рождается абсолютно из другого. Я даже не скажу, что он из места рождается. Он рождается из
У меня очень мало любимых архитекторов, даже я бы сказал, что любимых нет ни одного. Или один. Я очень люблю Алвару Сиза. Он мне как человек нравится. Я, правда, с ним никогда не общался. Только видел его, слышал, как он говорит, видел, как рисует. Мне очень нравятся его работы. Мне очень нравится его методология — как он все это придумывает, нравится его поэтика: мягкость какая-то и одновременно жесткость.
Мне кажется, в
ЮГ: Это в Роттердаме, например.
СС: Да. Как-то за него очень обидно, я прямо физически мучился. Когда я смотрел эти проекты, думал — надо было, конечно, отказаться. Зачем же так давать себя насиловать — ну, не любишь ты эту тематику. Скорее всего, ты ее физически не любишь — эти многоэтажные ульи. Он же человек ландшафтный очень.
А другие работы я смотрю для того, чтобы иногда так раскрутить сознание. Завести мотор. Надо подлить бензина, масла и так далее. Очень часто за чашкой кофе открываю журнал и начинаю его листать. И вдруг вижу какую-то вещь и даже совершенно не связанное с этой вещью, и у меня запускается механизм, и я начинаю рисовать свой собственный дом с той самой точки, на которой остановился. Вдруг прозрение. Бывает какая-то непонятная ассоциативная связь.
Или очень часто журнал просто подсказывает какой-то материал, про который ты забыл, или какой-то прием. Вдруг неожиданно он всплывает в очень необычной или интересной комбинации, и ты начинаешь переосмысливать. В определенном смысле это костыль, который позволяет тебе находиться в этом пространстве. Потому что очень важно понимать, где ты, твое место в общей мировой профессии.

Когда ты, например, делал свой небоскреб в
ЮГ: Я все время ощущаю травму революцией. Мы
В комнате сейчас 90% людей, которые не знают, что такое «советское время», они не понимают этого. Получается, что куда-то мы перешли, где-то мы оказались. Наше поколение людей — это те, у кого есть советский опыт. Есть время, в котором есть город, попавший под капиталистический пресс. Мы работаем на капитал, и дома эти — это тоже в достаточной степени коммерческая история, которой никогда не было. Это социалистический город, у которого столько пустого пространства — микрорайоны. Сейчас новое время, оно его тоже калечит.
На самом деле у меня два вопроса в одном. Где наши рубежи сопротивления? Мы были люди советские, а оказались агентами капитализма. Где-то в Европе понятны эти рубежи, потому что там старая история сопротивления, а мы вроде бы являемся адептами.
Я помню, мы с восторгом приняли этот капитализм, потому что — смотри, сколько возможностей. Представь, какое бы у тебя было бюро, не бюро, что бы ты построил — ведь ничего этого не было. Тебе дают возможности.
А с другой стороны, это каким-то образом определяет наше общее место в истории архитектуры. Потому что была советская архитектура, и теперь наступила капиталистическая архитектура. Вот что ты об этом думаешь? Где мы оказались?
СС: Да, мы жили в советском прошлом и в нем сформировались как люди. В советской парадигме мы были что-то должны, куда-то ходить и работать.
Отчасти поэтому мы такие трудоголики, потому что ничего другого не было. Работа была спасением и отдушиной. В ней можно было найти собственную позицию и самореализоваться даже в советское время. Дом-работа, дом-работа. Вечером иногда друзья. Дети. Какая-то такая запрограммированность существовала. Она и сейчас существует, несмотря на то, что мир совершенно другой. Много разнообразных возможностей, тем не менее накатанность осталась: жизнь ради работы.
Но я должен с прискорбием или с грустью сказать, что я слишком люблю работу. В
Я очень консервативный человек: мало, что люблю, кроме того, что я люблю. Начинается конкурс, и я все равно очень жестко реализую какую-то свою любимую идею. Студенты или сотрудники пытаются предложить что-то совсем другое, что мне не нравится. Я это достаточно жестко отвергаю. И вот я существую в этом мире.
ЮГ: Капитализм тебя не…
СС: Капитализм дает мне возможность жить в собственном мире. И дает инструментарий — я получаю заказы и как художник рисую картины из кирпича и камня. У меня есть свои любимые материалы и свои проверенные способы. Я не полезный и не вредный для общества человек: я не наношу этому обществу вред, а
Откуда эта воля и желание? Наверное, генетически от родителей. То, что сейчас, например, происходит в Москве — много молодежи, они все активно обсуждают, обсуждают, бесконечные какие-то форумы. Меня на них не приглашают, и я совершенно не переживаю. Что я буду там говорить? Я же не оратор, не писатель, не поэт, не педагог в
Это мой мир. Я в нем нахожусь. Там, где я нахожусь — это тот водораздел, та черта. Я никогда не буду строить гигантские кварталы с 17-этажными домами. Даже когда у меня работы не будет в мастерской. Каждое новое поколение молодых волков старых волков выпихивает с поляны. Это совершенно очевидно: им нужна работа, им не нужны никакие другие идеалы и примеры. Появились урбан-блоки — но они в Садовых кварталах появились в 2007 году.
ЮГ: Ты не уходи от темы. Про
*
СС: Есть ли у тебя слабые места? (Смеются). Расскажи, пожалуйста, как с тобой не только дружить, но и конкурировать?
ЮГ: Конкурсы — это одна большая несправедливость. Непонятно, на что они нацелены. В условиях постоянной манипуляции медийным пространством у всех есть какие-то политические интересы. Большинство конкурсов, которые сейчас происходят, не нацелены на поиски лучшего проекта или архитектора для решения поставленной задачи. Поэтому с моей точки зрения конкурсы не нужны.
Есть немецкая система, которая мне нравится. Все архитектурные бюро должны быть загружены более-менее равномерно. Есть задачи для общества, которые надо решать, — проектирование детских садов, школ и так далее. Система должна эти задачи распределить между бюро. Я знаю немецкие ландшафтные и архитектурные бюро, у которых есть план работы на три года. Они знают, что сейчас сделают школу. Им надо сделать в срок и хорошо. Они получат кучу мнений, замечаний. Потом сделают другое что-то. Понятно, что есть более престижные заказы, например, театры, за которые надо конкурировать. Но архитектор не должен воевать за работу.
Меня всегда привлекала идея модерации: есть модератор, который понимает, что для определенной задачи нужен определенный архитектор. Например, для дома в центре. Абсолютно очевидно, что архитектору с современным архитектурным языком надо будет много бороться. В тоже время есть кто-то, кто может это более безболезненно решить. Я смотрю, что есть такие несовпадения. А еще есть люди, которые всю работу забирают. Это тоже интересные, так сказать, события. Но ее можно было бы более равномерно распределить между другими. Это более цеховая позиция, где кто-то должен уступить.
Мы, кстати, знаем такие примеры — дом Ильи Уткина, который он у Сергея Киселёва делал. Наверное, Серёжа тоже понимал, что какая-то была причина. Я не знаю. Но я могу это как модельную ситуацию представить себе.
Представь себе, что этот человек просто отказался от этой работы, что для архитектора не характерно, отдал ее кому-то. Мне эта позиция в достаточной степени близка.
Я думаю, что конкурсы не показательны. Мы сейчас вынуждены в них участвовать, просто потому что нам нужна работа. Это с моей точки зрения не совсем правильная организация. Есть конкурсы, у которых есть двойное дно. Например, Пушкинский музей. Было сразу понятно, что вся история хранится в этом флигеле. Участвовало три бюро: ТПО «Резерв», Skuratov Architects и «Меганом». Мы сразу решили целиком сохранить флигель, чтобы избежать любого конфликта. Он не нужен, а мы его сейчас сохраняем из последних сил, потому что это было средство выиграть конкурс. В этом даже цинизма нет. Было понятно, что решать будут люди, которые остановили стройку.

Поэтому твоя отвага, когда ты (С. Скуратов — прим.) решил его снести, — это жест, заявление. Ты его специально снес, потому что было понятно, что выиграть в этом случае очень трудно. Это ошибка в технологии или наоборот твое чувство правды.

Я честно считаю, что лучше флигель сохранить, потому что это смешнее, чем его сломать. Зданий в центре столько наломали, что уже не смешно становится. Сохранить вроде бы более смешно.
* Вопросы аудитории
Не кажется ли вам, что архитектура выпала из общекультурного поля, из фокуса интереса общества? Например, по сравнению с началом XX века. Как это возможно преодолеть?
СС: Речь идет о России?
ЮГ: Да, что архитектура выпала из общекультурного поля.
СС: Да, это действительно так. Архитектура — не входит в основную систему ценностей нашего сообщества. Я имею в виду всей нации.
А как это преодолеть… Я как раз сегодня на круглом столе по поводу качества архитектуры сказал, что это очень сложный процесс, и сначала нужно научиться уважать другого человека и научиться уважать его работу.
Вот когда мы научимся уважать труд другого человека, тогда, может быть, постепенно мы научимся понимать друг друга.
Тогда мы постепенно научимся ценить профессионализм, искренность и вообще самоотдачу другого человека. Архитектура — она же жертвенная профессия. Тогда научимся любить и ценить любую профессиональную деятельность.
Это поколенческая история. Может быть, пять, шесть, семь, десять поколений пройдет (я не знаю, сколько), пока мы впервые попадем в европейское русло.
ЮГ: Я бы так на этот вопрос не ответил. Мне кажется, что архитектура не была никому никогда нужна, и никому она нужна не будет. Мне кажется, архитектура в фокусе интереса общества никогда не находилась. А вот в фокусе интереса власти — мы знаем периоды, когда она находилась и становилась средством пропаганды. Сам по себе город как тоталитарное тело — это тоже вещь, о которой стоит поговорить. Потому что город нами рулит в большей степени, и архитектура посвящена городу. А общество может этим интересоваться.
Является ли архитектура частью культуры? Скорее всего, она должна ею являться. На телевизионном канале «Культура», в Министерстве культуры и вообще нигде нет архитектуры. Они интересуются только реставрацией. Во всем том, что можно назвать культурой — там нет архитектуры. Поэтому мы исходим из того, как я понимаю, что она никому не нужна, нужна не будет, и нужна только городу и ей самой.
Думать, что в начале XX века она была интересна обществу (если иметь в виду конструктивизм) — то надо спросить людей более компетентных, которые присутствуют в этом зале. Был ли такой момент? Конструктивизм и история архитектуры начала века — это совершенно специфическая вещь, и я не думаю, что в обществе был какой-то интерес к архитектуре. К искусству — наверное, да.
-
Проблема национальной идентичности в архитектуре.
ЮГ: Красиво написано, между прочим, очень — почерком хорошим. Как вы относитесь к этой проблеме и делаете ли что-нибудь для того, чтобы русская архитектура стала узнаваемой, Сергей Александрович?
СС: Я не смогу ответить на этот вопрос. Может банальный ответ. Что такое национальная идентичность — тоже очень сложно ответить в эпоху глобализма. Я бы с грустью, может быть, даже с состраданием смотрел бы на тех людей, которые бы выжимали из себя, выдавливали из себя национальную идентичность.
Мы здесь живем, мы дышим этим воздухом. Мы общаемся, обсуждаем что-то. Но все равно мы существуем в общемировом пространстве, европейском, англо-американском. Мне кажется, это искусственная история.
ЮГ:
Я знаю, что такое национальная идентичность, и дам ответ. Мне кажется, что в первую очередь — это плохое качество строительства.
(Смех в зале). Потому что все исключительно хреново построено. Даже Кремль — святыня национальная — расписана по кирпичу: нарисованы новые кирпичи краской. Они там
Ты в этом смысле выделяешься — ты пытаешься строить хорошо, качественно. Ты пытаешься строить качественно, поэтому твоя архитектура не вполне идентична.
Строить надо дешево, строить надо хреново, и надо сделать так, чтобы потомки ломали голову, чем покрасить это уродство, которое разваливается на глазах. Из этого потом, мне кажется, из следующих реинкарнаций и рождается идентичная архитектура. Когда построил из белого камня церковь, а потом взял веник и годами умазюривал этим веником чем-то белым. Из этого получаются какие-то фантастические памятники. Потому что взять хороший камень, гранит или что-то — это Петербург, это уже европейская архитектура. К нам не имеет отношения. Не идентично.
СС: Я думаю, что под эту формулу можно подписать громадное количество стран. Есть буквально две-три страны, в которых высокое качество архитектуры. Во всех остальных — примерно такое же, как в России. К сожалению, мы не единственные.
(Смеются).
ЮГ: Мы являемся частью глобального процесса.
-
Что вы делаете, если время, отведенное вами же на проект, заканчивается, а идеальная форма не найдена?
СС: Недавно была такая история. Была презентация проекта, заказчик был в восторге, все замечательно. Я потом подошел к нему, и у нас состоялся такой диалог:
— Вы знаете, все отлично, но нам надо все переделать, — сказал я.
— Зачем, всё красиво, нам все нравится.
— Вам нравится, а мне — нет.
— Но у нас нет времени
— Мы наверстаем, когда будем делать стадию проекта.
— Точно?
— Конечно, абсолютно.
И вот мы за две недели все переделали. Стало лучше. Не идеально, но я думаю, что мы на стадии проекта еще доработаем.
ЮГ: И в стройке?
СС: И в стройке чуть-чуть. Но я всегда обещаю заказчику, что на стройке, во время производства рабочих чертежей, во время строительства не будет никаких изменений. Я держу эти обещания и выполняю. Стройка должна начинаться тогда, когда все придумано. И так он, бедный, измучен нашими бесконечными изменениями и поиском, поэтому на стройке надо уже работать по одному чертежу.
ЮГ: Я коротко отвечу. У нас время на проект никогда не заканчивается. Мы проектируем бесконечно. Идеальная форма тоже никогда не бывает найдена в результате этого. Поэтому такой проблемы просто не существует. Это очень просто. Просто вечно проектируешь, и всё.
СС: Красиво сказал.
-
Что вы хотели бы спроектировать из того, что никогда не проектировали, и реализовать это? Если уже есть этот проект, который остался на бумаге, смогли бы вы выступить сами как девелопер этого проекта и искали бы под это деньги инвестора?
СС: Из тех проектов, которые я не реализовал, мне очень дороги три проекта. Это Пермский театр оперы и балета. Я очень хотел выиграть, очень хотел построить. Но там никто ничего не построил, и Дэвид Чипперфилд, который выиграл конкурс, тоже ничего не смог сделать.
Второй — я очень хотел сделать подземную виллу в Хилковом переулке. Мне казалось, что это новая, интереснейшая типология. Мне очень жалко, что ее не удалось сделать.
А
Есть еще четвертый проект, но я сразу знал, что он никогда не будет реализован. Это Вышний Волочек. Я хотел бы на этом острове построить здание, которое могло бы, тогда мне так казалось, изменить судьбу этого города. Теперь я понимаю, что этот город уже ничего не спасет.
ЮГ: Я попробую за нас за всех ответить. Мне кажется, это вопрос хороший. Когда я его читал, он мне таким не казался. А сейчас мне кажется, что это интересный вопрос.
Есть какая-то пирамида в этом: ты получаешь работу все крупнее и крупнее по размеру. Это какая-то странная история, я пытаюсь с ней на других фронтах бороться. Мне почему-то кажется, что молодые архитекторы, когда им до тридцати лет, не должны начинать с того, что сначала «построить соседу веранду», «сделать ремонт в квартире», к пятидесяти годам построить детский садик, а потом уж замахнуться на жилой дом.
Мне кажется, что чем человек моложе, пока у него есть силы — он должен делать как можно более крупные проекты. Большие. Сразу ответственность. Самое главное, самое важное — пусть он делает.
Жизнь устроена как раз ровно наоборот. Мне было бы интересно вернуться и сделать что-то маленькое. Мы когда-то начинали по тому же принципу и делали маленькие дома частные, или квартиру одну построили. Для меня сегодня чем меньше, тем это интереснее, и тем недостижимее. Получается, что тут никакой инвестор не поможет. Это значит, что что-то у нас не так в построении профессиональном — потому что мы вынуждены брать эти работы, чтобы зарплату платить.
СС: Я, кажется, понимаю, отчего это. Когда мы делаем большие проекты, мы много теряем в мелочах. Мы не можем физически эти мелочи отработать. Поэтому у нас ностальгия по деталям, по мебели или каким-то маленьким пространствам. Нам кажется, что если нам закажут маленькую квартиру или маленький домик, мы, наконец, расцветем. Сможем себя реализовать.
ЮГ: Самообман.
СС: Самообман, конечно.
-
Как вы относитесь к воспитанию молодых специалистов и видите ли дальнейшую перспективу в этом? Можно ли научить архитектуре? Как вы видите образовательный процесс сегодня?
СС: По поводу студии я не знаю, я думаю. У меня в новом офисе есть место, целый зал. Я не решил еще. Я считаю, что воспитание может быть только в совместной работе.
Я с удовольствием… Пока есть возможность — сейчас она, правда, немножко закончилась, ограничена. Я набрал в мастерскую достаточно большое количество молодежи. Я их учу, воспитываю — это происходит в совместной работе, то есть когда есть совместная ответственность. Они уже выступают не как ученики, а работают у меня как коллеги. Я думаю, что это лучший способ.
Я могу ориентироваться на свой опыт с А. Лариным. В моей ситуации при моей загруженности — это единственный способ. Может быть, появится другой. Может быть, я сильно устану от работы и мне захочется общения. У меня же был опыт в Московской Архитектурной Школе.
ЮГ: И как он?
СС: Ты знаешь, мне показался слишком маленьким. Во-первых, мне было интересно. Во-вторых, я же преподавал в МАРХИ в 2000-х годах. В 2004 году я закончил преподавать. Мы с Ильёй Уткиным преподавали. Это была очень странная пара. Один — абсолютный модернист, другой — абсолютный классик.
ЮГ: Вы «пилили» группу пополам?
СС: Нет, мы не пилили, но мы совершенно раздирали их на куски. Консультировали мы одних и тех же людей.
ЮГ: Довольно страшно себе представить такое.
СС: И мы приучали их к разным моментам, разным ценностям учили их. Это было смешно.
(Смеются).
ЮГ: Вам было смешно, вы же их раздирали. Конечно! А им, может, и не смешно было.
СС: Знаешь, из этого вышел какой-то результат. Многие из них остались в профессии.
(Хохот в зале).
ЮГ: Я коротко постараюсь ответить. Мне кажется, что проблема архитектурного образования, как ни странно, всё еще ждет своего решения. Хотя это решение опоздало уже на двадцать лет. И будет продолжать опаздывать, я чувствую, еще на двадцать лет, и еще на двадцать лет. Почему это так происходит? Наверное, потому что архитектура никому не нужна, поэтому никто и не собирается заниматься архитектурным образованием.
Во-первых, задачу архитектурного образования решает архитектурная школа. Причем, их должно быть много. И надо трансформировать МАрхИ и превратить его здание во
Во-вторых, есть очень большое количество сомнений по поводу необходимости архитектурного образования, если ты хочешь действительно быть архитектором. Они не развеяны у меня до сих пор. Мне кажется, что лучше всего становиться архитектором, если у тебя нет архитектурного образования или если оно у тебя второе или третье. Традиции сегодняшнего архитектурного образования гуманитарный аспект не учитывают. А не получив сильного базового гуманитарного образования, совершенно невозможно обучаться архитектуре. Поэтому все люди, которые хорошо разбираются в архитектуре — это, в основном, не архитекторы. Те люди, которые понимают, что такое культура, и они — не продукт архитектурного образования. В этом смысле система мастерских, где учатся у архитекторов — это достаточно опасная вещь, и об этом тоже надо помнить.
СС: Трудно с этим не согласиться, потому что мне в молодых архитекторах очень сильно не хватает гуманитарности. Люди с сильным гуманитарным сознанием идут в другие профессии. Когда ты сталкиваешься с архитекторами, то понимаешь, что они владеют уже компьютерами, умеют что-то рисовать, научаются думать немножко, но
Профессия, которая внешне не заставляет человека много думать и развивать свои умственные способности — делать выводы, много читать. Но это на самом деле не так. Я говорю своим подопечным, студентам, друзьям — если ты не сложился, как человек, ты не будешь архитектором. В первую очередь, надо заниматься собственным самообразованием и самовоспитанием. Архитектор, прежде всего, — это человек, и у тебя должна быть нравственная, житейская позиция. Остальные навыки и таланты — это все потом.
ЮГ: Это хорошее завершение нашего взаимного интервью. Спасибо большое, мы очень рады были.

*Следите за событиями, проводимыми проектом *Аудитория, подписавшись на его fb-страницу.
