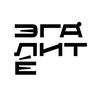«В тени любви» Синди Милстейн
Это эссе было написано для антологии «Революционные любовные письма» (издательство Minor Compositions, 2013 г.) под редакцией Джейми Хекерта, который любезно разрешил мне поделиться с со своими читателями текстом заранее. Изначально я написала свое «письмо» в апреле 2011 г., в горько-сладкую пору весны после «Оккупая», а слегка подправила его после необыкновенного лета любви 2012 г. внутри общественного движения на улицах Монреаля посреди студенческой/социальной забастовки. Возможно, то, что мне хочется сказать о любви и трансформации, лежит где-то посередине.

* * *
Когда я была маленькой, у нас во дворе росла большая плакучая ива, и во время цветения ее тонкие свисающие ветви образовывали пористый бледно-зеленый зонтик, дугой раскинувшийся над обширным пространством от неба до земли. Это было открытое пространство. И в то же время деликатно экранированное.
Расположившись внутри на аккуратно утрамбованной земле, можно было видеть улицу, едва-едва, сквозь миллионы мелких листочков, весело играющих под дуновением ветра. Можно было выглянуть наружу сквозь крохотные глазки, пропускавшие свет подобно звездам в кристально чистую ночь, и каждый проблеск удерживался в объятиях тени, которую друг за другом отбрасывали листья.
Недавно я спросила свою шестилетнюю родную племянницу, что она понимает под словом «любовь», которое по нескольку раз в день произносит в разговорах с мамой, и она ответила совершенно искренне: «Любовь — это всё, в чем добро»[1]. У нее на заднем дворе в Орландо нет плакучей ивы — лишь хрустящая сухая трава, миниатюрная пальма и беспрепятственно слепящее солнце.
И все-таки, быть может, моя племянница в чем-то права.
Бытует старинное толкование слова «добро»[2] как тесно связанного по смыслу со словом «добродетель»[3]. Добро как этическая конструкция в противовес добру как, скажем, чувству «доброты», «добротному» уровню мастерства или материальным благам. Если речь о глаголе «любить»[4], — а на мой взгляд, это именно так, или, по крайней мере, всегда должно быть так, — то, возможно, ее определяющее качество — в стремлении к добру, к добру в мире, к добру по отношению к другим и к самому себе.
О потустороннем доме, созданном моей синеватой плакучей ивой, у меня остались лишь смутные воспоминания, но все они вызывают ощущения доброты, столь же разнообразные, как листва, превратившая то проницаемое убежище в нечто, теперь понимаемое мной как пространство любви. Или, может, она была одним из первых моих учителей, показавших, где случается любовь и где мы ее находим: это происходит не на солнце, а в тени.
Несколько лет назад, когда правительство США нагнетало свою войну с терроризмом, я участвовала в работе постоянной учебной группы, состоявшей в основном из моих ближайших единомышленников. Мы с командой сородичей-анархистов часами обсуждали капитализм, начиная с того, чем он на самом деле является, и заканчивая тем, какой язык, помимо «антикапитализма», может хоть отдаленно отразить представление о нравственной экономике будущего, не говоря уже о хорошем обществе. Мы также вели интеллектуальные споры о том, какие из различных категорий — вроде экологии, прямой демократии или воображения — для капитализма являются не воссоздаваемыми, или, точнее, могут оказаться ограничениями и, следовательно, стержневыми элементами его крушения. Каждая из этих категорий в конечном итоге ставила нас в тупик. И тогда кто-то предложил: «любовь».
После многочасовых обсуждений, несмотря на наши, казалось бы, искренние чувства друг к другу, любовь тоже пала под весом наших пристальных взглядов, раздавленная тяжестью коммодификации и ее лишенного любви спутника — отчуждения.
Больше года назад, когда Adbusters наращивали свои ставки на Уолл-стрит, я попала на четвертый день акции «Оккупируй Зуккотти-Парк», где были в основном белые, гетеросексуальные, гладко выбритые или неопрятные старшеклассники (хотя очевидно, что внешность может и должна быть обманчива). Слово «любовь» было повсюду, они его писали или символически обозначали сердечком на указателях, на футболках, на коже, оно повторялось и разносилось все громче саунд-чек за саунд-чеком. Это любовное чувство также часто проявлялось в недружелюбных по отношению к квир-персонам фразах, как, например, на картонном плакате одного нео-хиппаря с собакой: «Бесплатные поцелуи (если вы не мужчина)».
И все же после долгих часов, проведенных во все более тесном пространстве того, что вскоре распространится по всему континенту и за его пределами как «Оккупируй везде», я снова начала воспринимать любовь не как пустой лозунг, а как сердечную защиту от духовного обнищания современного капитализма. Я стала видеть в ней катализатор борьбы и даже вклад в сопротивление в том числе и материальному обнищанию при капитализме — отголоски любви и ярости, о которых не так давно заявляли анархисты. И по мере того, как проходят кажущиеся годами месяцы с первых дней «Оккупируй Уолл-стрит», мне открывается потенциал одного из самых трогательных революционных лозунгов: «Мы несем новый мир прямо здесь, в наших сердцах». Что, если мы превратим эту фразу из самых обычных слов в слегка измененную практику реализации «нового мира прямо здесь, из наших сердец», понятую как неотъемлемый, префигуративный компонент социальных преобразований? Что, если мы еще и переформулируем ее как основную причину нашего желания перестроить общество — «новый мир здесь, для наших сердец»? Где будет находиться этот полный любви мир?
Это заставило меня метафорически вернуться под мою плакучую иву, в тень ее любви.
Капитализм, наряду с родственными, но все же отличающимися формами несвободы, такими как гетеронормативность и расизм, искусственно вытаскивает любовь на свет — в ослепительное сияние, что сродни впечатлениям от Таймс-сквер и Лас-Вегаса; распахнутая дверца печи докрасна раскаляет пламя любви-как-секса. От блеска вспышек папарацци до глянцевых журнальных обложек с аэрографией и рекламы экзотических отпусков на тропических пляжах, от хэппи-эндов крупнобюджетных романтических комедий до искрящихся от пота тел моделей на зернистых черно-белых билбордах — всё, что есть любовь, растворяется в поцелуе капитализма. Эти образы легки, они лишь малая часть сверкающей поверхности того, что разбивает наши сердца, умы и тела. Гораздо хуже то, как мы представляем себе любовь в глубине наших сердец: мы видим ее солнечной и яркой, простой и незамысловатой, как идеальный закат, идеально завершающий наше идеальное «я» на исходе залитого солнцем дня. Любовь как порабощающее и порабощенное существительное.
Люди, как и множество других существ и растений, нуждаются в тепле. На базовом биологическом уровне нам необходим солнечный свет. Не помешает он и на эмоциональном уровне. Однако любовь в эпоху капитализма, как мне кажется, может процветать только в тени.
Любовь может вести себя подобно тенистому дереву, обеспечивая защиту и укрывая от выжженной земли современного общества. В отличие от того, обо что продолжаешь обжигаться, даже когда больно, любовь-как-тенистое-дерево дарит мягкое тепло, разносимое легким ласковым бризом или сладкой тишиной. Это период спокойствия, убежище, где мы находим приют.
Хотя такая отдушина временна. И ее недостаточно. Если любви не будет больше, намного больше, нам в конечном итоге придется снова окунуться в удушающую жару.
Поэтому любовь должна творить свое волшебство в наступающей темноте и против нее, творить из теней, что охотно маскируют все табуированное, все подавленное, недопустимое, запретное, немыслимое. Все, что невообразимо. Не потому, конечно, что мы не можем попытаться представить себе это, а потому, что почти невозможно постичь свойства любви вне количественных рамок сегодняшнего общественного порядка. Не в последнюю очередь нам следует держаться в стороне от того, что считается нормативным, нормальным, естественным, от того, что некоторые считают законным. Как раз чтобы иметь возможность участвовать в рискованных экспериментах какой может и должна быть любовь. Рискованных потому, что другие, скорее всего, станут осуждать, порицать, сажать в тюрьму или маргинализировать нас здесь и сейчас, а то и вовсе попытаются полностью остановить нас. Но еще более рискованных потому, что, хотя мы вполне согласны на невыносимую легкость нашей собственной любви, мы не можем быть уверены в том, куда движемся в этом туманном сумраке. В этом мире теней мы можем лишь играть с возможностями, надеясь, что любовь оживит все разнообразие интимных отношений — физических, эмоциональных, социальных и прочих — подобно успокоительным ветвям моей ивы в весенний день.
Плакучая ива моей юности росла между нашим скромным одноэтажным домом и цепной изгородью, отделявшей задний двор от парка и детской площадки рядом с начальной школой. Для многих соседских детей эта общественная территория сулила гораздо больше перспектив, чем все, что могли предложить наши ограниченные квадратные дворы: «образование!» — да, но также «свобода!», «равенство!», «братство!». Парк был блестящей приманкой, чтобы завлечь нас в стены учебного класса. Туда приезжала передвижная библиотека, где нам выдавали чудесные книги, фургон с мороженым продавал там соблазнительно дешевые сладости, а местная община устраивала карнавалы с раскрашиванием лиц, воздушными шарами и играми. Разве может моя одинокая ива сравниться со всем этим?
Но меня и моих друзей полупрозрачный голубовато-золотисто-зеленый занавес из листьев привлекал гораздо больше. Он скрывал нас — тех из нас, кто чувствовал себя не в своей тарелке в резком свете того, что считалось социальной реальностью, — и в то же время приветствовал тех немногих других, что были достаточно смелы, чтобы протиснуться сквозь лиственную завесу во тьму, дальше, в нашу автономную зону, и присоединиться к нам. Попадая внутрь, мы строили планы, мечтали и плели интриги, поскольку те, кто был снаружи — те, кто чувствовал себя как дома в этом чуждом нам мире, — очевидно, не могли нас видеть, хотя разглядеть наши смутные силуэты было достаточно просто. Мы получали свободу быть настолько подрывными, насколько нам хотелось. Что же до смелых, как нам тогда казалось, поступков, то обычно это выражалось в поздних ночных вылазках с развешиванием туалетной бумаги на деревьях у домов тех, кто нам не нравился. Но в своем неповиновении мы как устанавливали глубокие связи друг с другом — любовь, так и пытались разрушить все, что в миниатюрном мире нашей юности любовью не являлось.
И именно здесь, в тени любви, проявляется ее революционный потенциал. Не в ровном сиянии той любви, какой, как нам говорят, она должна быть, но в серых зонах и полутонах, в спектрах и оттенках той любви, какой она могла бы быть. В разнообразных практиках любовных отношений, моделей поведения и поступков, которые образуют навес прожитого добра, где сплетаются друзья, возлюбленные, биологические и выбранные семьи, человечество, нечеловеческий мир, общественные движения, незнакомцы и мы сами. В многообразии способов, благодаря которым мы можем с достоинством и солидарностью появляться из-под наших тенистых крон, из домиков на деревьях, шалашей и тому подобного, входя в наши самодельные сообщества потому, что нам больше не страшно оставаться в одиночестве, оставаться незамеченными, нетронутыми, неслышимыми. Ведь мы знаем, как радостно быть участником и творцом любви, сообществ заботы, самоопределяющегося дара и обмена разнообразными формами любви и способами любить.
Это то, благодаря чему зародились и развернулись «Арабская весна» на Ближнем Востоке, движение «Оккупируй» в Соединенных Штатах и студенческая забастовка в Квебеке. Это свежий воздух, поцелуй жизни, всех восстаний в мире за последнее время. Любовь как отчаянная попытка порвать с товарной логикой. Любовь как корень освобожденного и освободительного глагола. А еще любовь как порой дождливые дни, а порой солнечные, а порой снежные, несовершенные, непредсказуемые и удивляющие, как любой прогноз погоды, как вечно разворачивающийся процесс, запутанный, сложный и прекрасный, ведь он так беспорядочен потому, что нацелен на всё, в чем добро.
Любовь, сотканная из печали и слёз, источаемых плачем моей ивы, как воплощение борьбы за то, чтобы привнести все оттенки любви в манящий рассеянный свет нового мира.
P. S. (ведь какое любовное письмо, даже революционное, может обойтись без «p.s.»?)
Загуглив «плакучая ива» после написания этой заметки, я обнаружила в Википедии такие два факта: «Корни ивы широко разрастаются и весьма агрессивны в поисках влаги; по этой причине ивы могут стать проблемой, будучи посаженными в жилых районах, где их корни печально известны тем, что засоряют дренажные системы»; «Корни отличаются прочностью, крупными размерами и живучестью». К саботажу! К жизни! К любви!
Синди Милстейн
Перевод: Никита Белобородов
[1] Love is all that’s good. Здесь и далее рассуждения в оригинале строятся вокруг слова good, обозначающее в зависимости от контекста «добро», «добрый», «хороший»; в английском языке слова однокоренные, так что для более точной передачи авторской идеи в переводе за основу взят корень слова «добро».
[2] good — прим. пер.
[3] virtue — прим. пер.
[4] Синди Милстейн имеет в виду, что в английском существительное «любовь» и глагол «любить» имеют одинаковую форму — love. — прим. пер.