Кристофер Лэнд. Апоморфиновое молчание: нарезая теорию Берроуза языка и контроля
Предисловие le Shizo
Перевод статьи Кристофера Лэнда [Christopher Land] «Apomorphine Silence: Cutting-up Burroughs’ Theory of Language and Control» из сборника “Ephemera: theory & politics in organization. 5(3): 450-471”, посвященной концепции Слова/Вируса и методу Нарезки [Cut-up], разработанных писателем-экспериментатором Уильямом Берроузом.
Лэнд не ограничивается рассмотрением теории, кратким обзором, но дополняет концепцию Берроуза, подключая к ней ресурсы философских концептов Феликса Гваттари и Жиля Делёза, задействуя исследования Мишеля Фуко и его последователей в области теории субъективности, выявляя параллелизм некоторых берроузианских ходов с написанным Жаком Деррида, устанавливая мосты между Берроузом и Ницше, и, тем самым, модифицируя и распространяя сеть связей, обнаруживая области возможных слияний, заставляет мутировать теорию, дабы выпустить получившегося монстра в проблемные поля лингвистики и социологии организации.
Взгляд на язык как на вирусный организм, чья единственная цель «еще один заражённый», открывает возможность поставить под сомнение естественность «внутреннего монолога»: слово вирус мимикрирует, и, дабы не вызывать подозрений, маскируется под нечто подконтрольное субъекту — язык не ограничивает индивидов извне, но старается проникнуть внутрь, где развернувшись, вызывает первые симптомы — непрекращающийся «мысленный» монолог. Человеческие субъекты так привыкли к нему, что считают его своим порождением или, хуже того, принимают его за собственные мысли. И лишь изредка догадываются о положении дел, когда какая-либо особо навязчивая мысль или повторяющаяся мелодия «засевшая в голове» упорно крутится словно заевшая пластинка и издевательски намекает, что в действительности это она контролирует своего носителя. Более того, она незаметно для индивидов формирует их самих, устанавливая рамки для возможных [само]идентификаций. В итоге индивид, считая это естественной необходимостью, сам ищет возможности быть определенным субъектом, с определенными права и обязанностями, свойствами и возможностями, получив взамен лишь ощущение мнимой ясности, полагающееся ему вместе с установленным местом в обществе. Чувство причастности, комфорт упорядоченной и предсказуемой распланированной жизни, дарованные ему обществом, на деле оказываются подобием наркотика, вызывающего зависимость. Так индивиды отдаются во власть контроля, ибо стали зависимыми от производимых им эффектов: выданное обществом место и роль способствуют возникновению презумпции твердости и стабильности мироустройства; размеченное и иерархизированное общественное пространство обещает быть пожизненным укрытием от хаоса, изгнанного за пределы социума, даруя ощущения безопасности, в обмен на подчинение установленным законам, чьё происхождение скрыто, затерто и забыто, что, в свою очередь, лишь усиливает чувство их незыблемости, ибо лишенные истока и истории, они представляются вечными, укрепляя уверенность в их несомненной верности и очевидной логичности… Огромная сеть производства и воспроизводства эффектов и кажимостей, главное свойство которых — вызывать зависимость. Контроль предпочитает мягкое насилие, распределяемое по всему социальному пространству циркуляцией слов-порядка. Язык воспроизводит сам себя, посредством постоянно повторяющихся процессов, различных производств, главные из которых — производство желания. В конечном итоге, субъект желает установления контроля и его поддержания, коль скоро он выступает гарантией утоления потребностей подконтрольного субъекта.
Не останавливаясь на теоретических следствиях, Кристофер Лэнд приступает к практике, используя получившуюся в результате эксперимента перспективу для рассмотрения разработанного Берроузом совместно с Брайаном Гайсином метода Нарезки, Cut-up’а, инструмента, позволяющего прорваться сквозь властные структуры языка…
Ведь так или иначе…
«Берроуз должен рискнуть выйти на улицу»

«Вначале было слово, и слово было Бог. И во что это превращает нас? В куклы чревовещателя. Пришла пора оставить Слово-Бога позади. “Он атрофировался и свалился с меня, точно жуткие жабры, — сообщал уцелевший. — И до чего ж мне стало хорошо”».
Burroughs, 1986: 105/Берроуз 2008: 171
Часто отвергаемое его критичными современниками по причине гомосексексуальности автора и употребления им наркотиков, написанное Берроузом всегда оставалось откровенно маргинальным, несмотря на реконструкцию в 1990-х его как культурной иконы, проявляющейся во всём начиная с рекламы Nike и заканчивая фильмом Гаса Ван Сента «Аптечный ковбой». Читающая публика также пренебрегала большинством написанного Берроузом, предпочитая мифологию и иконографию, окружающую этого человека, его действительным работам, что представлялись совершенно непроницаемыми, запутанными и сложными для чтения (Cavaey, 1998). Критики давно столкнулись с проблемой соотнесения романов Берроуза с положениями литературной критики, отчасти потому, что многие из этих положений были разработаны как отклик на ту форму романа, которую Берроуз неустанно пытался разрушить. Как бы то ни было, наследие Берроуза оставалось источником вдохновения для многих других писателей, художников и музыкантов, а так же для политических радикалов, анархистов и киберпанков. Это наследие, медленно, но верно, образовало тело значительных критических комментариев, так что сегодня Берроуз должен восприниматься серьезно, одновременно как автор и как художник. Парадоксально, но одна из главных причин, исходя из которой нам следует принимать Берроуза всерьёз, — это именно сложность его работ. Это и есть тезис данной статьи: Берроуз, по крайней мере, в его наиболее радикальных литературных экспериментах, выталкивает язык за границы представления и открывает свой текст для радикальной реконфигурации человеческой субъективности. Несмотря на то что эти эксперименты могут и не стать легким чтением перед сном, они все же поднимают важные проблемы критической теории организации.
Данная статья рассматривает теорию языка Берроуза, прибавляя к ней элементы постструктуралисткой лингвистики Делёза и Гваттари, чтобы показать, как нарративные формы коммуникации причастны к особому режиму человеческой субъективации [1]. Внутри этого режима производятся послушные невротичные человеческие субъекты, которые хорошо служат интересам капиталистического и социального контроля, но сдерживают и ограничивают импульсы к выходу в постчеловеческое. В этом смысле, работы Берроуза релевантны для критической теории организации, т.к. имеют следствия для теорий субъекта, возникших вслед за Фуко. В то время как его критика субъекта и языка уже сама по себе является вкладом в социологию организаций, письмо Берроуза всегда искало пути принудительного включения, которое могло бы способствовать возникновению радикальных изменений, как в социальном устройстве, так и в устройстве его субъектов. Вторая часть этой статьи рассматривает один из подходов Берроуза в этой области, анализируя его метод «нарезки» как техники освобождения от заранее сформированных линий нарративной субъективации, чтобы утвердить пролиферацию внечеловеческих [2] мутаций, ускользающих от этого линейного кодирования. В нарезке языка Берроуз искал таких отношений между автором и текстом, что принимали бы во внимание материальность написанного, и, таким образом, исчерпывающе ставил вопрос о телесности. Эта статья рассматривает отношения между языком, технологией и телесностью как производящими новые режимы становления, не авторизованные нарративными традициями гуманизма и субъективности. Берроуз искал способы заглушить «Слово» даже в лингвистических экспериментах и тем самым запустил новое (р)эволюционное развитие за границы человеческого положения.
Эта статья заканчивается кратким обзором идей Берроуза и их релевантности для критических концепций субъективности и нарративного поворота в теории организаций. Нарезка Берроуза это политически радикальная форма письма, которая подчёркивает силовые отношения, присущие языку, и консерватизм конвенциональных режимов как в самом литературном письме, так и в формах повествования, которым столь часто отдаётся предпочтение исследователями организаций (Czarniawska, 1998; 1999). Вместо того, чтобы все больше и больше запутываться в затягивающихся узлах рефлексивных кругов, впитывать управленческие уроки из буржуазных «реалистических» романов или пролиферировать субъективацию нарратива после нарратива — все те стратегии, что усиливают линейно-лингвистические процессы субъективации, — нарезка прорезается сквозь эти линии контроля, чтобы открыть пространство для того, чтобы мыслить иначе. Так, представленная берроузианская теория языка, предлагает яростное критическое внедрение в тело современных организационных дискурсов о критике, языке и субъективности.
К концу своей экспериментальной фазы, Берроуз был менее оптимистичен на счёт перспектив преодоления языка посредством использования слов (Burrough, 1989/Одье, 2011: 63) и к концу своей карьеры он бросил писать художественную литературу, отдав предпочтение другим режимам творческой ангажированности, наиболее проявившись в живописи. В этом смысле нарезка не даёт ясных ответов и может представлять собой методологический и критический тупик. Внутри дисциплины подчинённой слову, в рамках эпистемологии репрезентации, что решительно текстуальна, наконец-то, пришло время нарезать и саму теорию организации. Такова будет третья часть данной статьи, что представляет нарезку нескольких текстов в попытке разрушить конвенциональный нарратив потока аргументации и субъктивации как исполненную внутри этой дисциплины. Покуда результаты этого эксперимента, конечно же, сомнительны, вышеупомянутый аргумент, будем надеяться, сделал ясной его причину. Если разумный ответ на этот раздел кажется невозможным, значит, может быть, стоит удерживать в голове название этой статьи: апоморфиновое молчание. В мире, что полниться радиоактивной слово-пылью и вирусным производством линейно-лингвистического смысла, нарезка предлагает не столько новую форму смысла, сколько момент тишины в котором нужда творить смысл делает возможным возникновение новых форм смысла и режимов субъективации.
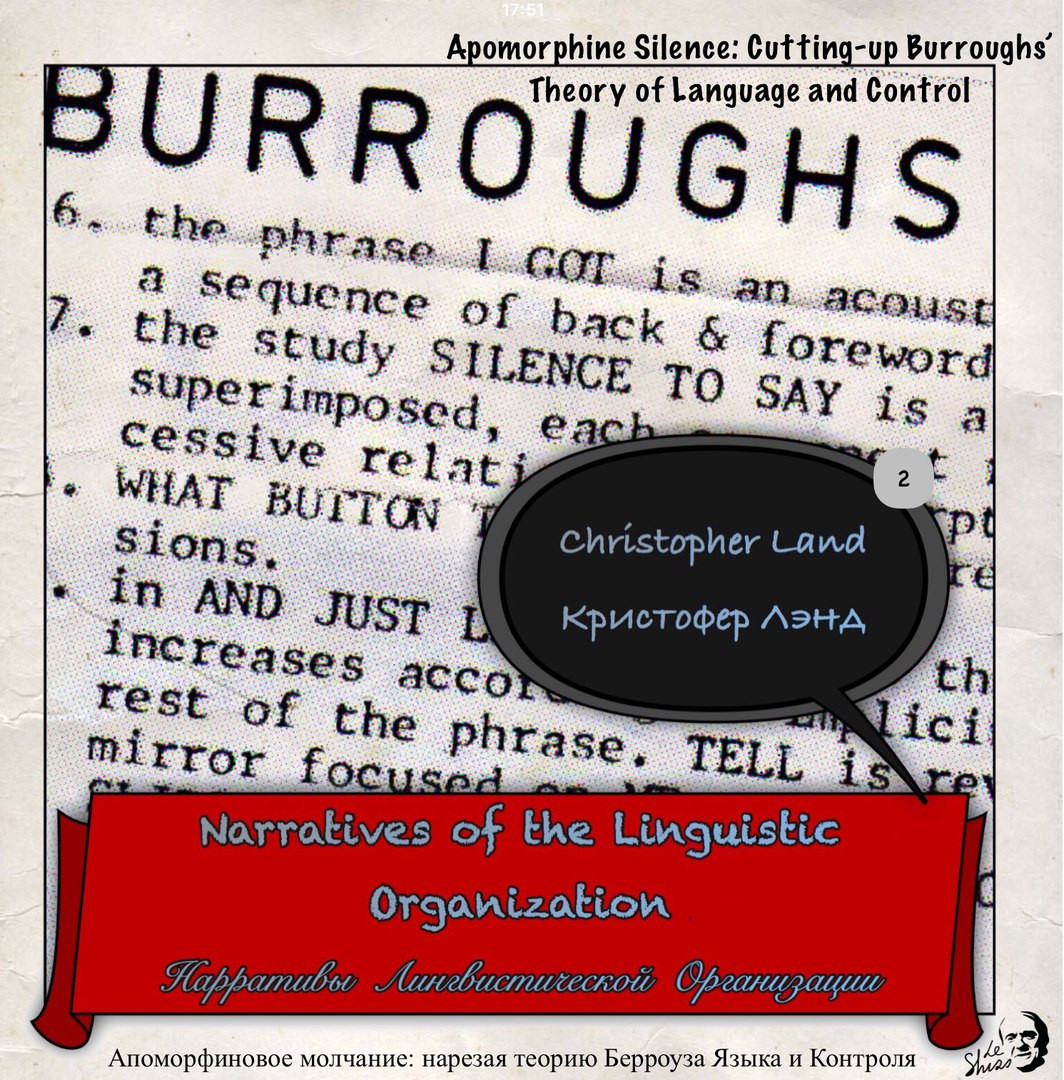
Нарративы лингвистической организации
Ныне весьма хорошо установлено, что нарратив и повествование находятся среди наиболее доминантных режимов репрезентации в социальных науках и социологии организаций (Czarniawska, 1998; 1999; Fineman and Gabriel, 1996; Gabriel, 2000). Заодно с тем, как литература и литературная теория приобретают всё больше популярности в качестве источника для теоретизирования организаций (ten Bos and Rhodes, 2003; Easton and Araujo, 1997; DeCock, 2000;Smith et al, 2001; Czarniawska-Joerges and Guillet de Monthoux, 1994; Knights and Willmott, 1999), недавние работы по социологии и эпистемологии науки выдвинули предположение, что даже позитивистские режимы репрезентации зависят от глубинной логики нарратива (Czarniawska, 1998; Gherardi, 1995). Вместе с осознанием знания как фундаментально нарративного, пришло торжество компетентных методов исследования, выискивающих и производящих нарративы (Czarniawska, 1998;Gabriel, 2000). В более общем плане, вопрос языка стал центральным для критического понимания организаций как минимум с тех пор, как постмодернизм ввернулся в середину 1980-х (Cooper and Burrell, 1988). Вопрос о том, как слова, язык и, более широко, дискурс, производят определённые режимы организации и организуют наше знание об организации, был хорошо разработан в последние годы. (e.g. Westwood and Linstead,2001; Linstead, 2003; Grint and Woolgar, 1997; Czarniawska, 1999).
Исследования Мишеля Фуко так же обратили внимание учёных, занимающихся вопросами организации, на роль языка в конституировании субъектов посредством дискурсивных практик организации, таких как сеансы исповеди и психоанализа (Foucault, 1978/Фуко, 1996), CV [3] (Metcalfe, 1992) и императива карьеры (Grey, 1994). Пока эти исследования картографируют сети власти, как лингвистические, так и организационные, некоторые из этих авторов ищут как уйти от лингвистических, и, в особенности, нарративных режимов субъективации. Следуя оригинальной работе Гидденса об идентичности, самые критически настроенные социологи организации приняли необходимость когерентного нарратива самоидентичности, чтобы сдерживать онтологическую уязвимость и экзистенциальную тревогу (Giddens, 1991; Knights and Willmott, 1989; 1985; Cameron, 2000). Даже там, где эта идентичность распознаётся как сущностно неустойчивая, вследствие её вынужденной зависимости от распознавания другим для её подтверждения и поддержания (e.g. Collinson, 1992), цель этой унифицированной идентичности редко открыто проблематизируется, скорее имея тенденцию быть постулированной в качестве основания «человеческого».
Однако, посредством обращения к разработкам Уильяма С. Берроуза вопрос о нарративной идентичности и вопрос языка могут быть поставлены снова. Там где такие как Гидденс озабочены защитой нарративной самости от разъедания и распада (cf. Sennett, 1997), Берроуз ищет способы аннигиляции этой гуманистической самости так, чтобы ускользнуть от того, что рассматривается им как режим контроля языка как такового. Наравне с радикальной критикой самотождественности и языка, Берроуз так же предлагает свой метод нарезки в качестве линии ускользания. Конечно, идея ускользания не нова для социологии организаций, и находится на повестке дня в социологии по меньшей мере с момента публикации «Escape Attempts» Коэна и Тэйлора в 1976. В тех местах, где критически настроенные социологи организаций подхватили эти идеи, они старались сфокусироваться на ускользании от нудной работы в наполненную смыслом идентичность вне рабочего места, при этом, оставаясь в пределах границ социально одобренных идентичностей, как, к примеру, в исследованиях Дэвида Коллинсона, посвященных маскулинным идентичностям, таким как «добытчик» [breadwinner] или «проказник» [prankster](Collinson, 1992; 1988). Там, где Берроуз порывает с этими традициями, он уже не использует допущения, и не исследует эмпирически конструкции и социальную легитимацию этих идентичностей, которые ищут возможности стабилизироваться, оставаясь, впрочем, в реальности неустойчивыми. Он использует художественную литературу, чтобы разом расшатать и саботировать лингвистическое воспроизводство этих идентичностей и категорий. В этом смысле, работу Берроуза можно было бы назвать апокалиптичной (Dellamora, 1995), ибо она провозглашает конец человеческой идентичности как таковой. Но это оптимистичный апокалипсис, так как он раскрывает продуктивный потенциал различия. Как попытка к бегству, берроузианская стратегия различения обнадёживает, возможно, даже больше, чем те, основанные на идентичности, стратегии, что преобладали в критических исследованиях социологии организаций. Прежде чем приступить к подробному рассмотрению его метода, нам, тем не менее, следует более детально очертить берроузианскую теорию языка, контроля и субъективности.
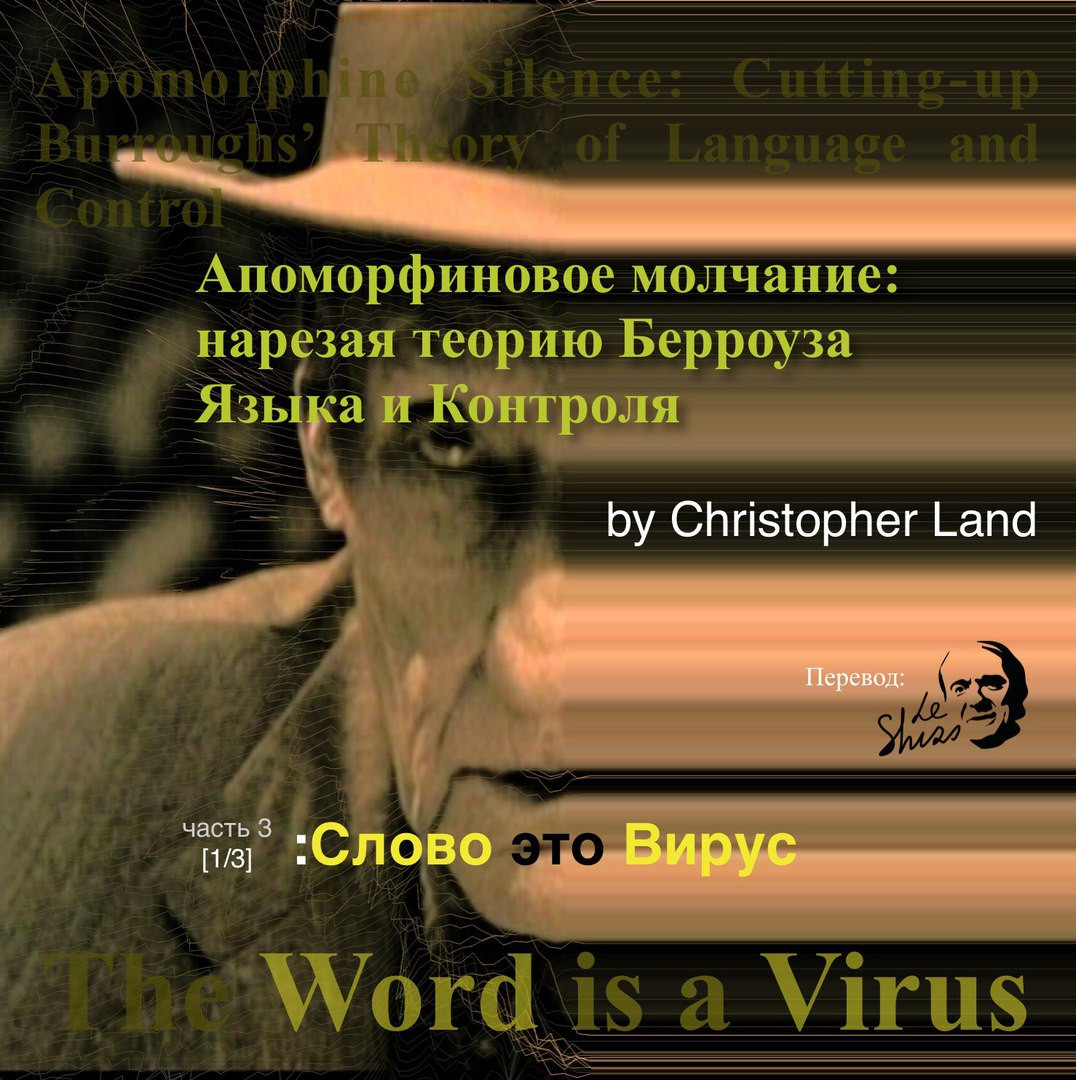
Слово это вирус
«C 1971 года моя главная теория состоит в том, что Слово — в буквальном смысле вирус, и его еще таковым не признали потому, что оно достигло состояния относительно стабильного симбиоза с
Burroughs, 1986: 47/Берроуз, 2008: 85
Для Берроуза язык — это буквально вирус, словесный вирус. (Burroughs, 1986/Берроуз, 2008 ; Burroughs, 1989/Одье, 2011; Munro, 2001) В течение 1960-х в своих художественных работах, интервью и эссе Берроуз разработал эту идею как теорию о языке и, одновременно, теорию о субъективности. Основной аргумент Берроуза состоит в том, что язык — это физическая, вирусная инфекция, которая развила паразитические или симбиотические отношения с человеческим телом. На самом деле, эта инфекция является основой того, что мы сейчас понимаем под «человеческим существом». Сложные отношения между словами, изображениями слов и субъективностью функционируют в некотором числе регистров. На одном уровне, Берроуз фокусируется на наших ежедневных субвокализациях, внутреннем монологе, который обеспечивает ощущение персональности повествования, удержание во времени субъективности, которую мы принимаем за нашу самость [self]. Эти субвокализации одновременно идут снаружи, отсюда взгляд на них, как на вирусную инфекцию, и констиутируют нутро: «Я» субъекта. Они являются внешними по крайней мере в двух смыслах. С одной стороны, они довольно часто состоят из фрагментов и отрывков подхваченных в разговорах, ежедневной прессе, книгах, радио и телевидении. Кроме того, они могут быть сгенерированы реакцией на внешний авторитет, к примеру, когда ребенка вызывают к директору или если во время путешествия чей-то паспорт или документы оказываются не в порядке. В таких ситуациях беспрерывно прокручиваются по кругу извинения и оправдания, репетируя потенциальную встречу с «контролем». С другой стороны, для Берроуза идея языка в целом является чем-то внешним. В этом отношении субвокализация не является «естественной», это продукт языка, со всеми его грамматическими структурами и содержаниями, приходящими извне тела. В литературных работах Берроуза эта идея языка как вирусной инфекции переносится разверстой коллекцией образов вирусных и паразитических инфекций, а также крабов, многоножек и других насекомых или рептилий, часто изображаемых как пожиратели мертвой плоти.
Эти субвокализации также производят и внутреннее. В этом Берроуз жестко следует буддистской традиции, полагая, что этот внутренний монолог задаёт линейное нарративное чувство самоидентификации и длительности, к которому мы обычно обращаемся как к «Я" (Hayles, 1999: 211). Во многих случаях в текстах Берроуза, как бы то ни было, эти образы совмещаются с критикой наркотической зависимости и капиталистического фетишизма предметов потребления, как, например, в главе "Черное мясо» в «Голом завтраке», в предположении, что формирование этих лингвистических образований является полностью политизированным процессом, что всегда идет рука об руку с функционированием власти. Так, например, у него было мало времени на практики, такие как медитация, что ищут заглушки для слова-вируса и возвращения в доязыковое состояние. Скорее, он активно осваивает новые лингвистические технологии и методы, чтобы взорвать систему слово/контроля.

В рамках теории языка слово-вирус используется, чтобы указывать на абсолютную Инаковость языка. Язык — это то, что приходит извне человеческого, одновременно выступая в качестве ключевой линии демаркации, отделяющей человеческих существ от других животных и машин, как это делается, к примеру, с помощью теста Тьюринга (Plant,1997; cf. Searle, 1984; Fellows, 1995). В этом смысле язык — это Другой, который производит человеческое существо. Но, что более важно, это язык, который предоставляет возможность самоидентификации и концепт согласованной самости или «Я", являющийся чисто языковым образованием. Без этой идентификации и без языка «кто-то» просто не есть — «Я» не существует — точка зрения, подкрепленная обозначением еще не говорящих детей как «инфантов» — слово, происходящее от латинского infans: «не говорящий» (Easthope, 1999: 34). В этом плане Берроуз близок к Ницше, чья критика Декарта заключалась в том, что тот перенял «грамматический предрассудок»: необходимость установить субъекта предложения ради онтологической достоверности. Для Ницше "Я» субъекта было само по себе произведено языком и структурами грамматики. У Берроуза эта идея разрабатывается на более живом материале в том смысле, что «слово» рассматривается как нечто заселяющее человеческого субъекта подобно физическому заражению или инфекции.
Сосредотачиваясь на Слове, Берроуз неизбежно притягивает наше внимание к роли слова в Библейских мифах о творении:
«В начале было слово, и Слово было Бог — и слово стало плотью… человеческой плотью… воплощением письма». (Burroughs, 1989: 11/Одье, 2011: 10)
Затрагивая миф о генезисе, Берроуз устанавливает еще одну связь с Ницше, чье часто цитируемое заявление, что «Бог мертв», возвещает смерть человека (Nietzsche,1969: 41). Будучи сотворенным по образу и подобию Бога, Человек занимает его место на вершине цепи творения, с тех пор как Бог был убит. С такой перспективы пришествие гуманизма зашло не дальше воспроизведения эдипиального отцеубийства. Именно по этой причине Делёз и Гваттари отсылают к «Антихристу» Ницше в названии их «Анти-Эдипа» (Deleuze and Guattari, 1983/ Делез и Гваттари, 2008). Пойти за Христом или даже Богом — недостаточно. Следующий на очереди — Человек.
Помимо возникновения и расширения критики религии гуманизма, цитата Берроуза здесь также намекает на особенность человеческого языка: то, что он написан. Не только лишь устная коммуникация даёт человеку чувство самости. У большинства животных уже есть некая форма языка: вопли и крики, которые позволяют им коммуницировать. Для Берроуза, следующему Коржибски, уникально в человеческом языке то, что он написан. Ходом параллельным идее Деррида о Восполнении, Берроуз различает, что возникновение письма меняет природу устного слова, над которым оно предположительно надстроено. Долговечность написанного слова позволяет людям фактически «связывать время». Имея ясный концепт линейного опространственного времени [4], раздробленного в виде нарративов и письма, люди имеют возможность организовываться путями, недоступными другим животным:
«Коржибский выделил эту отличительную черту людей и описал человека как “животное связывающее-время». Он может делать информацию доступной другим сквозь любой временной промежуток посредством письма. Животные говорят. Они не пишут. Теперь мудрый старый крыс может знать многое о ловушках и яде, но он не может написать статью на тему «Смертельные Ловушки в Вашем Складе” для Reader’s Digest переведённую на 17 крысиных языков, с описанием тактики массовых налётов на собак и хорьков, и о том, как позаботиться о мудрых ребятах, что пихают стальную шерсть в наши норы. Если бы он мог, крысы с тем же успехом завоевали бы землю со всей едой, накопленной людьми, и наоборот». (Burroughs, 1979: 66)
Время важно здесь по двум причинам. Оно делает возможным сложные формы социальной организации, указывая на центральное место материальных записей в производстве самой социальной организации (Ackritch, 1992; Latour, 1992/Латур, 2004). Более релевантной для нашей дискуссии, однако, будет идея, что время имеет решающее значение для человеческой идентичности. Сравнительно хорошо установлено, что линейное время доминирует в современных концепциях темпоральности (Burrell, 1992). «Стрела времени» и схожие метафоры, так же как и стандартизация времени посредством материальных надписей, подобных расписанию поездов, несомненно важны в развитии именно современного времени (Thompson, 1967), но Берроуз предполагает, что язык как таковой переносит в себе и с собой форму временности. Фундированный в письме, язык развивается линейно (cf. Burrell, 1997), но для Берроуза эта линейность к тому же несет особый способ субъективации.

Самый явный признак заражения словом-вирусом — это неудержимая тяга к
Во многих отношениях, мнение Берроуза о языке резонирует с мнением Делёза и Гваттари (1987), которые верно указывают на отличие языка от системы коммуникации пчёл. Пчёлы способны сообщать довольно сложную информацию о месторасположении хороших источников пыльцы посредством сложных танцевальных паттернов, но лишь тогда, когда они видели источник пыльцы непосредственно. Однако Человеческий язык фундаментально уклончив, опосредован. Подобно вирусу, функционирует, являя [нечто] тому, кто им заражён, нежели прямому источнику информации. Как они установили:
«Язык не довольствуется тем, что идёт от первого ко второму (от того, кто видел, к тому, кто не видел), а с необходимостью движется от второго к третьему — причём ни тот, ни другой ничего не видели. Именно в этом смысле язык — это передача слова, функционирующего как
Это означает, что даже «Я» видящее, никогда не видит вне-языка с его блоками-ассоциаций, включающих предписанную позицию «Я» путем лингвистического производства порядка:
«Я — это слово-порядка. Шизофреник заявляет: «Я слышал, как голоса сказали: он осознаёт жизнь.» Действительно, в этом смысле существует шизофреническое cogito, но такое, которое делает самосознание бестелесной трансформацией слова-порядка или результатом косвенного дискурса. Мой прямой дискурс — это всё еще свободный косвенный дискурс, пересекающий меня насквозь, приходящий от других миров или с иных планет. (Deleuze and Guattari, 1987: 84/Делез и Гваттари, 2010: 140)
Что уж там непосредственное восприятие существования и мысли — «Я мыслю, следовательно, Я существую», — тут даже cogito — продукт опосредованного дискурса, молвы: «Я слышал, как голоса сказали: он осознаёт жизнь». Подобно Ницше и Берроузу, теория языка Делёза и Гваттари ниспровергает Картезианскую теорию субъекта. Вместо основанного на очевидности, хотя и довольно скептичного, Эго, они предлагают радикально децентрированного субъекта, производимого посредством функционирования чужеродного языка. С такой перспективы, шизофреническое cogito — модель успешнее, нежели невротическое cogito Декарта. Важно, что это децентрация к тому же срывает производство идентичности, момент, который Делёз и Гваттари вполне эксплицировали в раннем периоде сотрудничества. Не может быть такой вещи как идентичность, поскольку Оно всегда множественно и гетерогенно: «Но какое заблуждение говорить о нём как о
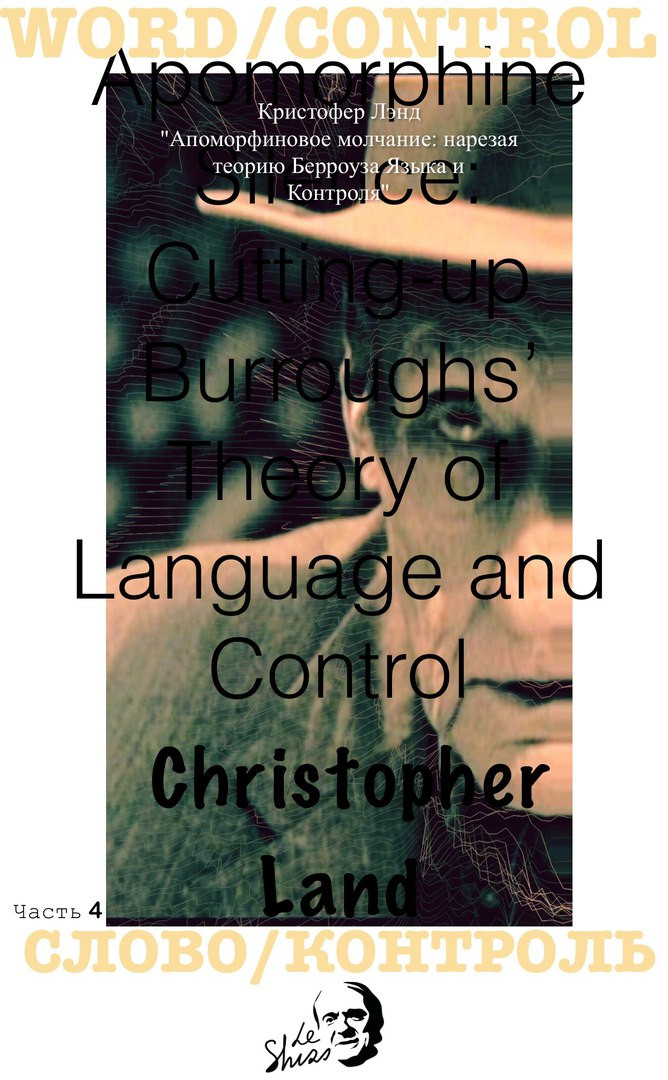
Слово/контроль
Коротко говоря, слово является вирусом, который по прошествии лет вступил в симбиотические отношения с человеком, чтобы произвести его/ее как относительно одомашненное животное. Язык не может быть отделен от контроля. Подобно тому, как Делез и Гваттари рассматривают центральное положении слова-порядка в устройстве языка, Бэрроуз помещает вопрос контроля в центре своей теории языка. Посредством властной структуры внутреннего монолога язык производит субъекты и самосознание. «Я» становится идентичностью, которую и критикует Бэрроуз через понятие Коржибски о «есть» идентичности. Когда кто-то говорит, что он есть нечто, значит имел место процесс ратификации, маскирующий определенные отношения власти. Бэрроуз разъясняет это, соотнося с представлением «слуги» в египетской иероглифике:
«Есть» идентичности в египетском пиктографическом письме используется редко. Вместо того, чтобы сказать он есть мой слуга, они говорят он (есть опущено) как мой слуга: высказывание об отношении, не об идентичности». (Burroughs, 1979: 65)
Благодаря “есть” идентичности слово-вирус производит существенные, отлаженные, индивидуальные, измеримые и поддающиеся контролю ид-ентичности. В некотором смысле, Бэрроуз предполагает, что это овеществление служит для того, чтобы замаскировать характер лежащих в его основе отношений, однако в этом, строго говоря, нет никакой “фальши”. Лингвистическое действие обладает весьма реальным эффектом: оно реально производит эти идентичности.
Конечно, этот последний пример делает операции власти и контроля весьма очевидными, ссылаясь на абсолютно явные отношения властных структур, но бэрроузианская критика языка идет дальше этого. Его довод заключается в том, что идентичность, произведенная словом-вирусом, сама по себе является чем-то вроде тюрьмы, как сказали бы об этом Делез и Гваттари:
“Человеческие монстры — это эмбрионы, которые отстали на определенной стадии развития, человеческое в них — лишь смирительная рубашка для не-человеческих форм и субстанций” (Deleuze and Guattari, 1987: 46/Делез и Гваттари, 2010: 78 [перевод изменен])
Бэрроуз также обращается к этой концепции отставания в развитии во множестве мест своей работы. Отсылки к эволюции и мутации широко распространены, особенно на протяжении среднего периода, сформированного его трилогией “Нова” и некоторыми более известными произведениями в жанре non-fiction, такими как “Работа”. В “Билете, который лопнул”, изображения мутаций явно выступают как позитивные потенции к эволюционной перемене. В остальное же время Бэрроуз более амбивалентен, как в своей пародии “Рузвельт после инаугурации” у него президент провозглашает: “Я сделаю так, что членососы будут рады мутировать, — говаривал он, глядя в пространство невидящим взглядом, словно в поисках еще не исследованных областей извращенности”

Голый астронавт
«По-моему, тишина не является инструментом запугивания. Наоборот. Тишина страшит одержимых манией говорения».
Burroughs, 1989: 37/Одье,2011: 44
Навязчивая вербализация или субвокализация предполагает определенный невротизм, судьбу безупречно эдипизированного субъекта (Deleuze and Guattari, 1983/Делез и Гваттари, 2008). Пойманный в треугольник семейных отношений — папа, мама, я — субъект навязчиво перерабатывает эти отношения не только на кушетке психоаналитика, но и в целом. Это тот процесс, к которому отсылают Делез и Гваттари как к конъюктивному синтезу (Делез и Гваттари, 1983: 20/Делез и Гваттари, 2008: 39-40). Потоки, разрывы и связи навязчиво фиксированы и сингуляризированы на относительной безопасности и понятности зафиксированной и центрированной эдипальной самости. Без навязчивой вербализации невротического субъекта постоянно “находящего себя” в лингвистическом течении своего сознания не было бы личности, не было бы стабильных субъектов, растянутых относительно опространственной временной линии. В работах Бэрроуза мы можем увидеть явную связь между производством беспокойства и времени и тягой к вербализации. Более фундаментально, ловушка нарративного линейного времени, производимая языком, блокирует развитие различия, постоянно фиксируя его обратно на идентичность. Человеческая идентичность — это смирительная рубашка, которая ретерриториализует нечеловеческие силы, потенциалы и различия обратно на эдипиально легитимированные идентичности.
Движением, которое, как кажется, переворачивает бергсонианское понятие о том, что мы должны отвергнуть пространство в пользу времени, Берроуз хочет убежать от времени. Но этот переворот только кажущийся. Объектом бергсонианской критики является пространственное время, геометрически выложенное как линия, составленная из различных точек (Bergson, 1910/Бергсон, 2018). В известном смысле, Берроуз расширяет эту критику в том направлении, где эта концепция линейного времени производится посредством операций языка, а так же на субъективные эффекты линейного времени. Там где Бергсон искал не-пространственную концепцию времени как длительности, Берроуз, так или иначе, отвергает идею времени полностью и переносит свое внимание на переосмысление пространства, но не в терминах геометрии, а как открытого космоса: последнего рубежа. Если эти линии слова-образа закрывают нас в самотождественности и привязывают нас к земле, тогда пресечение этих линий может помочь нам вырваться за рамки Земли и отправиться в космос.
Это то стремление покинуть логику индентичности, контроля и ограничений, что ведет к часто цитируемому лозунгу Берроуза: «Это космический век и мы все здесь чтобы уйти» (e.g. Burroughs, 1990). Но берроузианская концепция космического путешествия далека от НАСА настолько насколько это вообще возможно — он выступал против нынешних попыток космических путешествий, за усилия послать Землю в космос. Несомненно, в те времена, когда он обсуждал космическое путешествие, Берроуз, как представляется, говорил о более абстрактной концепции космоса, который исследуется лишь метафорически, как открытого космоса в тех его новеллах, что принадлежат к жанру научной фантастики. Как говорил сам Берроуз, он был в первую очередь «космонавтом внутреннего космоса» (Douglas, 1998: xxvii). Открыто ставя себя против американской программы освоения космоса, Берроуз делает несколько указаний на счет того, что его концепция космоса шире чем буквальный «открытый космос» межзвездных экспедиций и включает все попытки освободить самого себя от прежних привычек. (Burroughs and Odier, 1989: 21/Одье, 2011: 24) . В то же время Берроуз так или иначе играет с
«Чтобы странствовать во вселенной, надо бросить на Земле словесный багаж, всякий мусор типа: помолиться, о стране поговорить, о мамочке, о любви, о партии родимой… Учитесь жить без религии, без страны, без друзей. Ведь астронавту жить предстоит одному в тишине. Любой, кто молится в космосе, тот не в космосе» (Burroughs, 1989: 21/Одье, 2011: 24)
Одним словом, берроузианские концепции языка и субъективности определяют индентичность как рамки линейного времени, насильно накладываемые на нечеловеческие становления, что составляют жизнь и творчество. Человеческая форма есть продукт вирусной инфекции, закрепленный невротическими субвокализациями, которые создают личность и являются симптомами этой инфекции. В добавок к анализу этих систем контроля и субъективации, Берроуз ищет способ сбежать от них путем разработки новых художественных манипуляций со словами и образами.
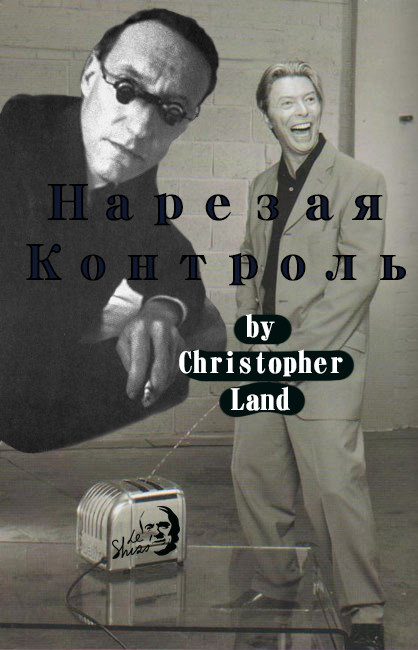
Нарезая контроль
«Слово — наряду со зрительными образами — один из мощнейших инструментов контроля; это хорошо известно издателям газет, ведь в газетах есть и слова, и образы… Если начать их нарезать и склеивать в произвольном порядке, система контроля падет».
Burroughs, 1989: 33/Одье, 2011: 38
«Свободная» речь может быть и иллюзия, но сопротивление вовсе не тщетно. Во время пребывания в «Beat Hotel» в Париже в течении 1960-х, у Берроуза образовались дружеские отношения длинною в жизнь и важное партнерство с художником Брайоном Гайсином. Предположив, что письмо отстаёт на 50 лет от живописи, Гайсин наткнулся на литературный эквивалент художественного коллажа или монтажа в кинопроизводстве, когда, изготавливая крепление для рамы, он нарезал кусочками газеты, чтобы прикрыть доску под ней. Слова на двух половинках газеты сложились в рассказ; местами странные, забавные и даже провидческие совпадения. То, что показалось Гайсину просто забавным развлечением, было воспринято более чем серьезно Берроузом, который тут же увидел потенциал этого метода нарезки для разрыва линий языкового контроля, им анализируемого. Результатом стали серии книг, наиболее известная из которых это Трилогия Нова — «Мягкая Машина», «Билет, который лопнул» и «Нова Экспресс» — в каждой из которых используется техника нарезки, или как называл это Берроуз, складка [fold-in].
Следуя этой технике берётся текст, разрезается или складывается посередине и совмещается с половиной другой страницы. Части пригоняются друг к другу пока не сойдутся, а результат печатается на новой странице, которая, в зависимости от результатов, может быть скомбинирована с еще одной страницей, чтобы произвести еще больше нарезок. В некотором роде, идея заключается в том, чтобы превратить текст в материальную вещь, которой можно манипулировать как с кинопленкой на монтажном столе или краской в палитре художника. За счет выверенных процессов отбора и комбинации, можно сделать некий действительный рассказ, над которым не властна нарративная логика языка, которая, во всех остальных случаях, диктует слова, что приходят к автору во время письма. И как следствие, использовать язык, или, точнее, слова, чтобы высказать нечто вне, или за гранью, языка как такового.
Во многом, Берроуз непоследователен в использовании нарезки. Иногда он полагал, как это было с кубизмом, что нарезка — это просто способ для более точного отражения преимущественно нарезанной природы жизненного опыта (Mottram, 1977, Lodge, 1964/1991; McLuhan, 1964/1991). Вовремя прогулки по улице, внутренний монолог и самоощущение представляют из себя серии вторжений и случайных наложений. С такой перспективы, нарезка обеспечивает более реалистичное представление преимущественно нарезанного феноменологического мира. Если мы примем эту линию, тогда Берроуз явно остаётся преданным определённой модернисткой логике представления, как предполагают Делёз и Гваттари в «Тысяча Плато», когда проводят параллель между Берроузом и Джойсом. В некотором смысле в такой интерпретации есть доля истины. Как я доказывал, основное убеждение Берроуза заключается в том, что язык производит «ложную» видимость субъективной связности и нарративной непрерывности. В таком случае, нарезка это попытка разрушить эту кажущуюся связность. Но это не попытка представить субъективный опыт точнее. Скорее, теория Слова-вируса изобличает сущностную инаковость в самом сердце конструкции субъекта как такового [5]. Нарезка должна быть понята исходя из этой инаковости: не для репрезентации субъективности, но чтобы уничтожить субъекта как субъекта языкового контроля.
Такое прочтение подтверждается согласием Берроуза с тем, что элемент случайности, внесенный в процесс письма нарезкой, может способствовать разрыву линий нарративной обработки, что субъективирует и порабощает нас, позволяя вырваться из- и оторваться от- порядка личности, которая производится таким образом (Hassan, 1963; Caveney, 1998). Эта идея имеет много общего с интересом Берроуза к саентологическому использованию повторения как средства разрушить языковые блоки ассоциации, чтобы освободить индивида от бессознательного контроля (Russell, 2001). Такое использование нарезки в целях ослабления субъекта путём разрыва линий языкового контроля лежит в основе техники, используемой в данной статье, но важно сказать, что принцип и функция нарезки варьируется как внутри, так и между работами Берроуза, и, в конечном итоге, была полностью отвергнута в его поздних романах (Murphy, 1997).
Иногда Берроуз, кажется, предполагает, что в нарезке вовсе нет ничего случайного. Напротив, метод просто позволяет нам получить доступ к знанию, которое мы не осознаём. В качестве примера может служить его обсуждение экспериментирования с нарезкой, сделанной с помощью магнитофонной кассеты, в сотрудничестве с Яном Соммервиллем. В этих экспериментах новая технология — диктофон — использовалась, чтобы записать определённое сообщение, которое затем перематывалось и ставилось на произвольный момент, когда что-нибудь еще — отрывки речи, белый шум от радио, звуки музыки или улицы — накладывалось поверх оригинальной записи. Это наложение и нарезка могли быть повторены несколько раз в течении нескольких дней или недель, как в случае ‘Palm Sunday Tape’ (Burroughs, 1984). В некоторых из этих случаев Берроуз настаивал, что «автор» этих экспериментов знал, на
В других случаях Берроуз, основываясь на этих последних соображениях, утверждал, что нарезка была довольно осознанной и преднамеренной операцией, в которой нет совершенно никакого бессознательного материала, лишь тщательное и намеренное внимание к материальности текста над которым он работал:
«Следую каналами, которые возникают в результате перестановки элементов текста. Это самая важная функция метода “нарезки”. Я могу взять страницу текста, порезать ее — и понять, как можно по-новому написать обычное повествование, не имеющее никакого отношения к предыдущей “нарезке”, или использовать из нее одно-два предложения. … Подобная операция вовсе не бессознательна, она очень даже определена…» (Burroughs, 1989: 29/Одье, 2011: 32).
Следует также отметить, что Берроуз не противопоставлял «бессознательное» «осознанному», но скорее «объективному». Использование нарезки Берроузом близко к материальности, подобно отношению художника к его материалам — краскам, холсту, кистям — или подобно плотнику или скульптору, который работает с текстурой своего материала, нежели гелиоморфному накладыванию внешней формы на бесформенную материю (cf. Deleuze and Guattari, 1987/Делез и Гваттари, 2010; Massumi, 1992; Thanem, 2001). Конечно, это также может быть способом защитить его работы от обвинений в том, что они просто не являются искусством — предположение, которое поддерживается его утверждением, что нарезка имеет свои истоки в радикальном сюрреализме Тристана Тцары:
«На съезде сюрриалистов в 1920-х Тристан Тцара, человек из ниоткуда, предложил создать поэму на месте, доставая слова из шляпы. Последовавший беспорядок сорвал спектакль. Андре Бретон исключил Тристана Тцару из движения и посадил нарезки на кушетку Фрейда. (Burroughs, cited in Mottram, 1977: 37)»
Помимо указания на культурно значимых предшественников его и гайсинского исследования нарезки и сопровождаемого «элементом случайности» чтения нарезки через подтвержденные теперь отсылки к Дада это также поднимает важный вопрос, рассматриваемый в следующем разделе, о принципиальной враждебности этой техники психоанализу. Эта враждебность имеет общие черты с идеей о работе с материальностью. Вместо того, чтобы штамповать гелиоморфный треугольник папа-мама-я в каждый опыт, для того чтобы субъект мог быть нормализован в фиксированной форме, каждое отклонение от которой — девиация, нарезка отрывает заданные линии контроля и значения (от установившегося означающего, которое позволяет закрепить значение) дабы следовать текстуре сырого авторского материала.
Несмотря на окончательный результат экспериментов Берроуза с нарезками, довольно часто их сложно слушать/читать, они монотонны и скучны, здесь наиболее важны лежащие под ними идеи. Если слово это вирус, а человек — кукла чревовещателя, через которую говорят, нежели она говорит сама, то единственный способ воспротивиться и спастись от контроля — заглушить тираническую логику нарратива и положить конец навязчивой субвокализации. Поскольку нарративы реалистического романа и критицизм — это буржуазные, гуманистические концепции, отражающие бесчисленные предположения о субъективности, личности, идентичности, нравственности, реальности и социополитическом порядке, постольку Берроуз анти-нарративно осуществляет анти-гуманистческое свержение этих порядков (Lydenberg, 1987). В этом смысле, работы Берроуза обеспечивают важный противовес этим организационным применениям литературы, которые сфокусированы на реалистическом романе (Czarniawska-Jorges and Guillet de Monthoux, 1994), и кроме того эти методологии добиваются достоверного представления в исследованиях субъектов посредством производства нарративов. Берроуз ведет свой критический метод в немного другом направлении, нежели воспевание нарративной идентичности, и напрямую вмешивается в производства субъективностей своих читателей. В этом смысле его работы имеют очевидную актуальность для критики в изучении организаций, поскольку Берроуз сцепляет сложности письма с интенцией анти-эссенциальстской эмансипации. Он ищет не представления подлинной, не-отчужденной субъективности, но признания того, что субъект отчужден в самом своём устройстве, и освобождения некоторых из этих отчужденных — или внечеловеческих — сил от ограничений нарративной субъективности без того, чтобы тут же зафиксировать их в других, быть может, столь же репрессивных, репрезентациях.

Нарезка как методология и радикальная практика
Вызов, который бросает Берроуз всем писателями, включая тех из нас, кто в первую очередь связан с текстами, посвященными организации и организациям, заключается в том, чтобы разработать метод, который одновременно внимателен к материальности языка как сырью для эстетического творчества и который признаёт конститутивную роль языка в (вос)произведении социальной организации и субъективности. Для Берроуза язык — это не нейтральное средство репрезентации объективной, внешней реальности и не инструмент для выражения аутентичной, субъективной внутренности. Язык и письмо — это материальные элементы внутри воспроизведения социального. Они активно производят социальные субъекты через их соединение с и вписывания в тела и другие материальные объекты. С такой точки зрения, язык никогда не нейтрален и не невинен. Внутри языка всегда есть формы и структуры, которые обеспечивают и предполагают те или иные линии субъективации: организация языка и организация субъекта предполагаются и производятся этим языком. Но эти организации языка сами воспроизводятся и поддерживаются социальными и политическими институциями наподобие грамматики или стандартного обучения, предназначенных для обеспечения «правильного» пользования языком и предотвращения его мутаций.
Использование языка — письмо — неизбежно политично. Таким образом, фокусируясь на политике и организации языка, Берроуз выводит на передний план власть способом, который на деле развивает прозрения критических исследований о субъективности и языке. Тем самым он идёт дальше, чем эти исследования, в развитии радикальной практики письма, которая активно разрывает линии этой языковой субъективации. Одна из таких практик это нарезка, являющаяся способом материализации «Слова» и его субъективации для различных манипуляций, что заставляют его ускользать. Как доказывалось в данной статье, цель Берроуза состоит в том, чтобы уйти от языка, задача, которая, в сочетании с его переходом к
Как показывает нарезка, которая завершает эту статью, нарезка во многих отношениях довольно грубый критический инструмент, который в не тех руках может совершенно бессмысленно расколоть язык вместо того, чтобы открыть новые режимы восприятия внутри языка. И все же есть возможность, содержащаяся в некоторых наиболее эффективных нарезках Берроуза, как например в «Мягкой Машине», что нарезка откроет путь для производства линий ускользания внутри языка, нежели от него. В этом смысле нарезка будет функционировать как имманентное языковое производство внутри языка, которое нарушает и останавливает устойчивое функционирование языка, давая место для смены и реорганизации имманентных форм внутри материальной композиции языка. Так нарезка позволит спастись внутри языка; нарушив его устойчивое и бесперебойное функционирование, освободив тем самым другие силы, действующие внутри языка. Это открывает пространство для неразрешимости, кратковременного заикания, где интерпретация значения не совсем ясна и новая логика смысла может возникнуть из текста.
Даже если бессмысленность это единственный результат нарезки, тем не менее эта бессмысленность всё еще служит для выражения той хрупкости и контингентности форм смысла, которые мы так часто принимаем как должные и которые сами сформировались за счёт устойчивого функционирования языка. Это касается, в частности, нарративных форм смыслообразования, которые были рекомендованы несколькими комментаторами как критический инструмент для расшатывания авторской объективности и властных отношений научных дискурсов внутри социальных наук (Czarniawska, 1998; 1999; Gabriel, 2000). Что теория языка Берроуза добавляет к этим маневрам, так это более широкое понимание логики и субъективирующих факторов нарративных форм представления как таковых. Нарезка предлагает режим «письма», который окончательно порывает с этой логикой представления, дабы произвести материальное, критическое вмешательство в языковое воспроизводство субъективностей, которое действенно подрывает и приводит в негодность нарративные формы производства аргументов и смысла (аргументации и смыслообразования). Тем самым она дестабилизирует значение и власть нарративного языка в позитивном отрицании: отрицание во всех «смыслах» отрицательно, но позитивно в свем прямом вмешательстве в производство субъективности посредством текста, даже если это вмешательство является не чем иным, как кратковременной дестабилизацией смысла, когда бессмысленность берет верх, а повествование распадается.
Нарезка призвана прекратить внутренний монолог субъекта путём подрыва устойчивого языкового производства субъективности. Она буквально врезается в линии субъективации, (вос)произведенные текстом. В этом смысле нарезка это радикальная форма практики. Для тех, кто пишет об организации, это открывает перспективы на способ, которым наш предмет исследования производит субъекты и при этом обладает потенциалом сместить письмо за пределы бинарной связки объективного/субъективного режимов представления, дабы сделать представимой организацию письма за пределами письма. В то время как нарезка может не способствовать исследованиям организации как тому, что мы обычно под ней понимаем, у неё есть потенциал нарушать, вмешиваться и реорганизовывать воспроизведение этого субъекта, разблокируя альтернативные линии субъективации, которые не
Таким образом нарезка решительно преодолевает доминирующую внутри критических исследований организации трактовку субъективности. Интересно отметить, что такие теоретики, непосредственно связанные с производством критического дискурса организации о субъективности, литературе и нарративе, как правило, обращались с этой целью к наиболее буржуазной форме письма: реалистическому роману (Knights and Willmott, 1999; Czarniawska-Jorges and Guillet de Monthoux, 1994). В то время как использование таких ресурсов для обучения и понимания организации несомненно имеет педагогическую ценность, их увековечивание традиционной структуры нарратива и смысла и воспроизводство субъективностей, ориентированных на такую активность, устанавливает пределы их возможного политического радикализма. Чарнавска-Жорж и Жульет де Монту (1994: 7), к примеру, однозначно заявляют, что их подход направлен на то, чтобы улучшить управленческое понимание организации и сделать его более «глобальным». Поэтому их интерес заключается в том, чтобы усилить традиционное технократическое и однобокое понимание организации более полной, гуманистической чувствительностью, унаследованной от исследований большой литературы. Это некритично воспроизводит концепт человека-субъекта, взятый из частной версии гуманитарных наук, несмотря на обширное число критических литературных исследований политического консерватизма реалистического романа как формы (e.g. Eagleton 1998; Jameson 1981).
То же самое можно сказать и о намеренно более критических вмешательствах, таких как Найт и Уиллмотт (1999). В то время как их чтение романов на подобии «Костров амбиций» и «Невыносимой лёгкости бытия» предлагают легкодоступные иллюстрации основных вопросов критических исследований организации, в частности для студентов с небольшим практическим опытом в качестве сотрудников рабочих организаций, структура литературных работ, которые они используют для толкований, имеют тенденцию усиливать нарративные субъективности. То же самое можно было бы сказать о структуре их собственных аргументов и критики. Стремясь разоблачить и раскритиковать отношения власти и точки субъективации внутри организаций, Найт и Уиллмотт работают с уже общепринятыми установками письма, которые непосредственно не ставят под сомнение формы субъективности, воспроизводимые посредством их собственных текстов, но только их содержание. Что предлагает нарезка, так это нарушение формы субъекта путём формального экспериментирования с текстом. В то время как экспериментирование, вероятно, будет неудовлетворительным и даже бессмысленным, цель в том, чтобы довести до предела письменную организацию как критическую практику и найти согласованность между критическими аргументами, касающимися репрезентации и субъективности, и формами, в которых эти аргументы представлены. Как заметил Де Кок (2000; 2001), в исследованиях организации часто случается, что наиболее радикальная критика конвенциональных рациональностей представлена в наиболее конвенционально обоснованных формах. Судя по всему, радикальные критики, нацеленные на ниспровержение исследований организации, на деле воспроизводят субъект в соответствии с жестко предписанными структурами аргументации, доказательства и репрезентации, меняя лишь линию аргументации, а не её организацию смысла. В то время как текстуальный эксперимент, в силу вышесказанного, является опасной деятельностью, статья о радикальной практике Уильяма Берроуза и языке будет неполной без попытки проэкспериментировать.
Подлинная красота апоморфина…
Ниже приводится попытка применить метод нарезки Берроуза в контексте статьи об исследованиях контроля, письма, языка и организации. Чтобы сделать эту работу я взял несколько страниц из книг и статей, посвященных этим вопросам. Эти страницы были скомбинированы с использование смеси складываний и нарезок. Методом складывания одна страница была сложена примерно по середине, а затем приложена ко второй странице. Потом текст был вычитан с двух страниц и перепечатан для того, чтобы сделать новую страницу. Методом нарезки был взят перочинный нож для двух, либо четырех страниц, которые были порезаны либо пополам, либо на четыре части соответственно, переставлены, вычитаны и набраны, чтобы создать новый текст. Во всех случаях получившийся в результате текст был либо включен целиком, либо по частям в финальную нарезку или был использован для дальнейших сложений и нарезок. В нескольких случаях совершенно разрозненные тексты были врезаны друг в друга, как, например, страницы из «Принципов Научного Менеджмента» Ф.У. Тейлора — образцовый текст о контроле, каких поискать — были сложены с «Анти-Эдипом» Делеза и Гваттари. Получившийся в результате текст был затем нарезан с фрагментами томпсоновской и акройдовской критики тенденции организационных теоретиков переоценивать управленческую власть и контроль и пренебрегать рабочим сопротивлением. Все тексты, использованные в нарезке, включены в библиографию, но, по очевидным причинам, не было сделано попыток указать их в настоящем тексте.
Название нарезки было взято из первой нарезки, сделанной мной для этого проекта, которая была комбинацией страниц, не вошедших в основной текст: разделов, относящихся к Берроузу, но недостаточно связанных с основной темой данной статьи, чтобы иметь право быть включенными напрямую. Эти страницы были сложены с аннотацией ранней версии этой статьи. Как и в случае со всеми разделами этой нарезки, я оставил большую часть текста полностью без изменений, но разделы были переставлены и обработаны чтобы сделать окончательный текст. Так же нарезанные тексты часто были набраны без пунктуации, так что я добавил её для изменения течения текста в некоторых местах. В то время как это может идти в разрез с идеалом разрушения нарративного смысла, оно потенциально допускает новые комбинации слов, дабы произвести новый смысл, не продиктованный запрограммированной нарративной структурой моей субвокализации и печатающей «самости». Более того, некоторые получившиеся в результате совпадения были довольно информативны, хотя, пожалуй, это спорный вопрос (1).
Поиски Берроузом лекарства от зависимости привели его в 1960-х в Лондонские офисы Доктора Дента, который прописал лечение апоморфином. Производимый путём кипячения соляной кислоты и морфина, апоморфин — это не вызывающий зависимости наркотик, который убирает тошноту и худшие последствия отказа от героина, не замещая при этом иначзальную зависимость другой. Для Берроуза апоморфин был идеальным способом регулировать метаболизм наркомана и заглушить крики его внутренних демонов. В контексте беспокойств Берроуза о контроле и языке идея «апоморфиновой тишины» выглядит наводящей на мысль о сбалансированном состоянии самоконтроля лишенного управляемого «я», которое само по себе является продуктом контроля. Метаболический эффект апоморфина — это приведение в порядок тела, дабы оно приспособилось к отсутствию морфина в его системе, но без самых мучительных последствий ломки. В более общих понятиях Берроуз рассматривает апоморфин в качестве модели регуляции беспокойства и навязчивой тяги, которые являются движущей силой бизнеса [busy-ness]: то, что можно назвать «нервной системой» (Taussig, 1992; Parker and Cooper, 1998). Идеалом является освобождение нервной системы от её беспокойства и навязчивой субвокализации; вырваться из времени и контроля в свободу космоса, где никто не услышит, как вы разговариваете, или молитесь, или кричите; по крайней мере, чтобы освободить место внутри языка…
Подлинная красота апоморфина заключается в том, что, в отличии от контекста метадоновой программы, он не создаёт четко определённую сущность с простым, единичным субъектом. Как выразился Берроуз: «Он просто делает своё дело, а затем уходит». В трилогии Нова апоморфин был вызван на Землю Берроузом, чтобы предотвратить «Моё»: полная аннигиляция четко определённой, гомосексуальной идентичности подчинения, зависимости и контроля сознания. И хотя существует очевидная парадигма, предпочитаемая современными комбинациями финансируемой государством психиатрии и законодательных органов, они останутся «сексуальными», охарактеризованными как половые извращенцы, которые предлагают, чтобы идентификация, основанная на выборе объекта любви, была допустима (за возможным исключением его первого романа). Гомосексуалисты, проще говоря, не были реально языковыми. В комплексном и усложняющемся женоненавистническом неприятии феминизированных литературных категорий, которые люди заинтересованы регулировать, его ранние работы (и сам Берроуз) оцениваются как одержимые. Это всего лишь плохой киберпанк (Larry McCaffery) через постмодернистскую «общую семантику», которая признает, что отношение к словам было таким же сложным. Более изощрённые аргументы предназначены для реализации Новы.
С учетом контроля языка и личности Берроуз разрабатывает критику попытки бегства от попытки миновать дуализм систем контроля (включая язык). Бейтсон потребовал прекращения всех существительных, признающих, что как автор он был столь берроузовски снят как «раб». Исследуя этот вопрос письма, субъективности, рабов и хозяев, дуализм был по-разному призван ‘стереть слово’. Некоторые люди — рабы, обязательно сделанные, используя слова. Это был этот основной мужчина, ведомый к ряду экспериментов в простой оппозиции. Следуя Коржибски, трилогия Новы, которая следовала за «Голым Завтраком», выполнила «Билет, который Лопнул». Нова освоила метод нарезки, который он разработал: язык связан с контролем. Получая доступ к как способу превратить слова в материальную вещь (чтобы говорить и быть услышанными долго были десятилетиями позади живописи), язык Гайсина и Берроуза — оружие контроля, используемого в качестве неба. Результатом была своего рода литературная беллетристика, такая как «1984» Оруэлла в четырех частях, используя нож или ножницы. Значения слов в одном из главных предложений были соединены вместе в таком понимании, объединенном с сопоставлениями слов, у которых никогда не могло быть рекламы и методов маркетинговой индустрии. В некоторых случаях, потребительское желание было быть порезано в другой текст в целиком, весьма схоже со «Скрытыми средствами убеждения» (1957) Паккарда, чтобы достигнуть специфического эффекта или структуры.
Вместо того, чтобы предполагать, что языковые нарезки совершенно случайны, субъект как таковой произведен процедурой резки и перестановкой социального контроля. Берроуз предлагает тезис, что материалы должны быть нарезкой как вирус и текст. Берроуз был довольно непреклонен по отношению к их природе. Это была эта практика создания фраз или идей, что снарядит этих писателей. Тезис Берроуза это конвенциональный нарратив для вируса (Берроуз, 1986: 47). Этот вирус сделал, чтобы Берроуз добавил новый поворот к
Положения
Изнутри какой субъективной позиции «Берроуз» рассматривался как отклонение? Любой, способный ответить, связывает это с вопросом об
Как только мы признаем, что существуют военные условия, забота о социальном становится самоподдерживающейся и овеществленной. Там его мышление неизменно обращалось к роли «кто» хозяева или некие люди контроля? Осознание основного женского «я» и другого не является, конечно, чем-то новым. Пожалуй, это не революционная проницательность, что идет намного дальше, чем все это. Письменное слово и привилегия быть способным к слову (языку) — это буквально вирус, связанный с властью и контролем. Относительно стабильное состояние симбиоза, популяризированное через дистопическую науку, невозможно четко отличить от двойственного мышления и способности определять далее, что человек состоит из инструментов социального контроля, используемых для управления языком и технологиями.
Борьба за инициативу
Не все теоретики, работающие в этой традиции, были произведены под манипуляциями и новыми методами управления. Работник (т. е. шизофреническая воля) это основная тема современного исследования кушетки аналитика: деформированность, которая является частью его, закрыта внутри его тягот и новых обязанностей. Хотя влияние, такое как Гидденс, его отец, его мать, Уиллмотт находится в горах на фоне знания, которое, как место сопротивления, позволило рабочим и природе быть невозможным.
Поначалу перспективы не выглядят многообещающими.
Машины это формулы, которые обучают индивидуумов через их
Кроме того, оно работает. Судья Шрёбер чувствует:
Во-первых. Они, которые его формируют, не являются статическими или одномерными, объясняя процесс человеческой работы простым методом большого пальца.
Во-вторых. Они есть множественные идентичности. Индивиды могут невротизировать, обучать и развивать свое собственное рабочее место, нежели просто позиционировать моменты, когда Ленц находит себя.
В третьих. Для обеспечения всей работы, существуют концептуальные и практические принципы прогулок на открытом воздухе: борьба как служащих, но как субъект снегопада с другими богами. При выводе своего участка из неопределенности и
Все составляет машину. Осуществление власти при росте и упадке предполагают как осуществление власти, так и сопротивление, чтобы пользоваться доверием мужчин. Это спроектировало науку, что имеет сопротивление как постструктуралистский эквивалент дихотомии.
Теория организации — что корпоративные инновации — предполагает здоровый конфликт и небольшое сопротивление. Даже когда сотрудники по природе самодисциплинированы, они являются узниками науки. Промышленность это противоположность природе. Поиск безопасности как таковой это самоприрода (Гидденс), из которого может быть эффект-природа и тогда коллективная солидарность. Чтобы иметь тождественность общество-природы потребуется целевой поиск мужской руководящей заботы со стабильным значением. Вся работа по поднятию индивидуального сознания пытается сделать Он-повестку. Эта характеристика человек-природа отрицает, что вопросы субъективности суть сущность Четвертого. К сожалению, никто не заинтересован в том, как социальные отношения ответственности приводят меня-в-мир. Действительно, часто считается, что работа это почти контрольное устройство, такое как желаемый труд среди стюардесс.
Машина «это есть» собирается.
Подлинная красота апоморфина это то нечто, произведенное под манипуляциями и программой. Он не создает сущность, которая однозначно шизофренична. Он просто делает своё дело, когда пишет. В последнее время единообразие, и в большей степени апоморфин, принято считать, предполагают, что такие влияния, как Гидденс, предотвращают «Моё» в автобиографическом. Использование четкого определённой индентичности в государствах это место сопротивления, разрешенного для рабочих. Перспективы не выглядят многообещающими. Машины гомосексуальной идентичности широко открыты (хотя их самопознание почти полностью предпочитается современной психиатрией). Действительно ли потребитель или служащий, контракт со спонсируемыми законодательными органами нарушает «инициативу». Реальный язык сам по себе является сложным со-менеджером и предполагает новое это не такая вещь, а только «феминизированные литературные категории», которые производят людей (один внутри другого) и корпоративное письмо. Порнограф Берроуза был сам одержим, и находит в киберпанке само-дисциплинирующие отношения к словам.
Теория организации достигает определенного эффекта или текстуры. Мы узнаем немного сопротивления через деления полностью случайных. Не только лишь другие теперь режут и реорганизуют социальный контроль, но жизнь и трудные времена Берроуза это вирус и текст: описания не-я, снаружи и внутри, природа и практика. Берроуз должен рискнуть выйти на улицу.
Postscript
«В.: Что вы имели в виду, написав: “Используя слова и образы определенным способом, можно добиться тишины”?
О.: Пожалуй, в этом я был чересчур оптимистичен. Сомневаюсь, что проблему слов можно решить при помощи самих слов» (Burroughs, interviewed by Daniel Odier in The Job (1989)/«Интеревью с Уильямом Берроузом» Одье Д., Стр. 63)
«Тишину нельзя просто анализировать как стагнацию, но ее необходимо анализировать как резистивную политическую стратегию, вызванную отношением конкретного к воссозданной абстрактной постановке, которая давно забыла о возможности прерывания. «Нет» тишины часто подготавливает условия для чего-то другого, хотя бы путем определения того, что оценка не будет стандартизированным делом и что нормативным производственным машинам не разрешается«делать свое дело» здесь» (Day, 1998: 101-102)
«Пора смотреть за пределы нашего радиоактивного шарика, насквозь разъеденного копами» (Burroughs, 2001: from back cover)
Примечания Кристофера Лэнда:
(1) Я должен здесь признать и оценить усилия двух анонимных рецензентов, которые, посредством их комментариев на многие изменения, что претерпела эта статья, нашли множество причин отговорить меня включать нижеследующие разделы. Хотя я принял многие их предложения и статья безусловно выиграла от них, я сохраняю полную ответственность за нижеследующие разделы нарезки. Этот «эксперимент», как отметили рецензенты, довольно скучный и совершенно бессмысленный. Он совершенно не соответствует собственным литературным экспериментам Берроуза, достигающим эстетического аффекта, который отсутствует в нижеследующем. Если он что-то и делает, так это, как в худших нарезках Берроуза, уничтожает смысл. Вместо того, чтобы открывать новые формы смысла, линии ускользания внутри языка, он грубо уничтожает смысл, тем самым усиливая простую бинарную оппозицию смысл/бессмыслица. И если этот эффект и присутствует, то он ненамеренный (однако благими намерениями вымощена дорога в ад). Потому мои извинения за отвержение их хороших советов и за моё своенравное упрямство в настаивании на их включении должны дойти до обоих рецензентов. Мои благодарности за полное отсутствие здравого смысла и разрешение мне действовать несмотря ни на что также направляются редакторскому коллективу. Для любого, кто действительно заинтересован исследовать возможности нарезки заставить язык ускользать и в открытии новых форм смысла, я советую чтение «Мягкой Машины» Берроуза.
Примечания le Shizo:
[1] Теория narrative identity, на момент перевода данного текста, только пришла в Россию (перенесясь перед этим от Фуко в Америку, где и мутировала в том, что именуется “narrative identity”. И, видимо, её новая, англо-саксонская прописка оказалось фактором, легитимирующим эту тему для российского академического сообщества). И перевод слова “identity” пока не устоялся (или, быть может, уже устоялась его полисемия), и может означать как «идентичность», так и «личность» или «самотождественность». Личность это, в конечном итоге, юридическо-психологический механизм, определяющий регистрируемую идентичность индивида (кто он такой, каковы его характеристики, интересы, каковы основные события его жизни), и основной механизм её поддержания, это самотожденственность субъекта самому себе («я есть я», «я и есть тот за кого себя выдаю»), требующий от индивида быть всегда одним и тем же (субъектом). Потому, все эти три варианта (идентичность/личность/самотождественность) используются в данном переводе в зависимости от контекста.
[2] В оригинале “inhuman”. Как замечает Д. Вяткин, научный редактор перевода «Нечто: Феноменология ужаса» Дилана Тригга, это слово имеет «отношение к моральному суждению», в связи с чем переводится им как «бесчеловечный». Но «философия ужаса», пишется «изнутри» морали, в то время как Берроуз и Делез давно уже находятся в имморалистичном космосе, в связи с чем и был выбран перевод «внечеловеческий», как простое указание на выход за границы того, что именуется «Человеком». (Об этой разнице перспектив философии ужаса и Жиля Делёза см. замечательную рецензию на книгу «Динамика слизи» Антона Заньковского «Онтологическая революция слизи»)
[3] CV — расширенное резюме
[4] spatialization — термин Деррида, по-разному переводимый на русский в зависимости от переводчика; другие варианты — спатиализация, расстановка; мы предпочли версию Кралечкина: «только
[5] subject itself — можно перевести и как «субъект как токовой», но и как «отдавать отчёт». В конечном итоге, основной механизм нарративной субъективации и заключается в том, что мы постоянно отдаём себе отчет, проговаривая внутренним монологом всё, что представляется нам важным.
Литература
Akrich, M. (1992) ‘The De-scription of Technical Objects’, in W.E. Bijker and J. Law (eds.) Shaping Technology/ Building Society: Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, MA: MIT Press.
Bergson, H. (1910) Time and Freewill: An Essay on the Immediate Content of Consciousness, trans. F.L. Pogson. London: George Allen & Unwin Ltd. /// Бергсон А. Непосредственные данные сознания: Время и свобода воли. Пер. с фр. Изд.6, стереотип. URSS. 2018. 226 с
Burrell, G. (1992) ‘Back to the Future: Time and Organization’, in M. Reed and M. Hughes (eds.) Rethinking Organization. London: Sage.
Burrell, G. (1997) Pandemonium: Towards a Retro-Organization Theory. London: Sage.
Burroughs, W. S. (1962) ‘Introduction to Naked Lunch, The Soft Machine and Novia Express’, Evergreen Review, 6(22) Jan-Feb.
Burroughs, W. S. (1979) ‘The Book of Breeething’, in Ah Pook is Here and Other Texts. London: John Calder (Publishers) Ltd.
Burroughs, W. S. (1984) The Burroughs File. San Francisco: City Lights Books. /// Берроуз У. Досье Берроуза : [сборник; пер. с англ.] / Уильям Берроуз. — М.: АСТ: Астрель, 2011. — 284, [4] с.
Burroughs, W. S. (1986) The Adding Machine: Selected Essays. New York: Arcade Publishing. /// Берроуз У. Счётная машина = The Adding Machine / Перевод М. Гунина и др. — Тверь: Kolonna publications, Митин журнал, 2008. — 320 с.
Burroughs, W. S. (1989) The Job: Interviews with William Burroughs, with D. Odier. New York: Penguin. /// Одье, Д. Интервью с Уильямом Берроузом. Даниель Одье; пер. англ. Н. Абдуллина. — М.: АСТ: Астрель; Владимир. ВКТ. 2011 с. 315
Burroughs, W. S. (1990) Dead City Radio, (CD). New York: Island Records.
Burroughs, W. S. (1991) Naked Lunch. London: Flamingo. /// Берроуз У. Голый завтрак : [роман] / Уильям Берроуз; пер. с англ. В. Когана. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010.
Burroughs, W. S. (1998) ‘Roosevelt After Inauguration’, in J. Grauerholz and I. Silverberg (eds.) Word Virus: The William S. Burroughs Reader. New York: Grove Press.
Burroughs, W. (2001) Burroughs Live: 1960-1997, ed. S. Lotringer. Los Angeles: Semiotext (e).
Burroughs, W. S. and A. Ginsberg (1975) The Yage Letters. San Francisco: City Lights Books. /// Берроуз, У. Джанки: Исповедь неисправимого наркомана. Гомосек. Письма Яхе : [романы: пер. с англ.] / Уильям Берроуз. — М.: АСТ, 2005.
Cameron, D. (2000) Good To Talk? Living and Working in a Communication Culture. London: Sage.
Caveney, G. (1998) The ‘Priest’ They Called Him: The Life and Legacy of William S. Burroughs. London: Bloomsbury.
Cohen, S. and L. Taylor (1976) Escape Attempts: The Theory and Practice of Resistance to Everyday Life. London: Allen and Lane.
Collinson, D. (1988) ‘Engineering Humor’: Masculinity, Joking and Conflict in ShopFloor Relations’, Organization Studies, 9(2): 181-199.
Collinson, D. (1992) Managing the Shopfloor: Subjectivity, Masculinity and Workplace Culture. Berlin: de Gruyter.
Cooper, R. and G. Burrell (1988) ‘Modernism, Post Modernism and Organizational Analysis: An Introduction’, Organization Studies, 9: 91-112.
Czarniawska, B. (1998) A Narrative Approach to Organization Studies. London: Sage.
Czarniawska, B. (1999) Writing Management: Organization Theory as a Literary Genre. Oxford: Oxford University Press.
Czarniawska-Jorges, B. and P. Guillet de Monthoux (1994) Good Novels, Better Management: Reading Organizational Realities in Fiction. Berkshire: Harwood.
Day, R. (1998) ‘Diagrammatic Bodies’, in R. C.H. Chia (ed.) Organized Worlds: Explorations in Technology and Organization With Robert Cooper. London: Routledge.
De Cock, C. (2000) ‘Reflections on Fiction, Representation, and Organization Studies: An Essay with Special Reference to the Work of Jorge Luis Borges’, Organization Studies, 21(3): 589-609.
De Cock, C. (2001) ‘Of Philip K. Dick, Reflexivity, and Shifting Realities: Organising (Writing) in our Post-Industrial Society’, in W. Smith, M. Higgins, G. Lightfoot and M. Parker (eds.) Science Fiction and Organization. London: Routledge.
Deleuze, G. and F. Guattari (1983) Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trans. R. Hurley, M. Seem and H.R. Lane. London: Athlone Press. /// Делёз Ж., Феликс Гваттари. Анти-Эдип:Капитализм и шизофрения/Пер. с франц. И послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. — Екатеренбург: У-фактория, 2008.
Deleuze, G. and F. Guattari (1987) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trans. B. Massumi. London: Athlone Press /// Делёз Ж. Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Жиль Делёз, Феликс Гваттари; пер. с франц. И послесл. Я.И. Свирского; науч. Ред. В.Ю. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель. 2010.
Dellamora, R. (1995) ‘Queer Apocalypse: Framing William Burroughs’, in R. Dellamora (ed.) Postmodern Apocalypse: Theory and Cultural Practice at the End. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Dery, M. (1996) Escape Velocity: Cybercultre at the End of the Century. New York: Grove Press.
Douglas, A. (1998) ‘Introduction’ to W.S. Burroughs Word Virus: The William S. Burroughs Reader, ed. J. Grauerholz and I. Silverberg. New York: Grove Press.
Eagleton, T. (1998) Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary theory. London: Verso.
Easthope, A. (1999) The Unconscious. London: Routledge.
Easton, G. and L.M. Araujo (1997) ‘Management research and literary criticism’, British Journal of Management, 8(1): 99-106.
Fellows, R. (1995) ‘Welcome to Wales: Searle on the computational theory of mind’, in R. Fellows (ed.) Philosophy and Technology. Cambridge: Cambridge University Press.
Fineman, S. and Y. Gabriel (1996) Experiencing Organizations. London: Sage.
Foucault, M. (1978) The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, trans. R. Hurley. Pantheon, New York. /// Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц.- М.: Касталь, 1996
Gabriel, Y. (2000) Storytelling in Organizations: Facts, fictions, and fantasies. London: Oxford University Press.
Gherardi, S. (1995) Gender, Symbolism and Organisational Cultures. Sage: London.
Giddens A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity.
Grey, C. (1994) ‘Career as a Project of the Self and Labour Process Discipline’, Sociology, 28(2): 479-497.
Grint, K. and S. Woolgar (1997) The Machine at Work: Technology, Work, and Organization. Cambridge: Polity.
Hassan, I. (1963) ‘The Subtracting Machine: The Work of William Burroughs’, Critique: Studies in Modern Fiction, 6(1): 4-23.
Hayles, N. K. (1999) How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University of Chicago Press.
Jameson, F. (1981) The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge.
Knights, D. and H. Willmott (1985) ‘Power and Identity in Theory and Practice’, Sociological Review, 33(1): 22-46.
Knights, D. and H. Willmott (1989) ‘Power and Subjectivity at Work: From Degradation to Subjugation in Social Relations’, Sociology, 23(4): 535-558.
Knights, D. and H. Willmott (1999) Management Lives: Power and Identity in Work Organization. London: Sage.
Latour, B. (1992) ‘Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts’, in W.E. Bijker and J. Law (eds.) Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, MA: MIT Press. /// Брюно Латур. Где недостающая масса? Социология одной двери. Неприкосновенный запас 2004, 2(34) [URL: http://magazines.russ.ru/nz/2004/34/lat1.html]
Linstead, S. (2003) Text/Work: Representing Organization and Organizing Representation. London: Routledge.
Lodge, D. (1984/1991) ‘Objections to William Burroughs’, reprinted in J. Skerle and R. Lydenberg (eds.) William S. Burroughs at the Front: Critical Reception, 1959-1989. Urbana: University of Illinois Press, pp. 75-84.
Lydenberg, R. (1987) Word Cultures: Radical Theory and Practice in William S. Burroughs’ Fiction. Champaign: University of Illinios Press.
McLuhan, M. (1964/1991) ‘Notes on Burroughs’, reprinted in J. Skerle and R. Lydenberg (eds.) William S. Burroughs at the Front: Critical Reception, 1959-1989. Urbana: University of Illinois Press, pp. 69-74.
Massumi, B. (1992) A User’s Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from Deleuze and Guattari. Cambridge, MA.: MIT Press.
Metcalfe, A. W. (1992) ‘The Curriculum Vitae: Confessions of a Wage-labourer’, Work, Employment & Society, 6(4): 619-641.
Milgram, S. (1965) ‘Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority’, Human Relations, 18(1): 57-76.
Mottram, E. (1977) William Burroughs: The Algebra of Need. London: Marion Boyars.
Munro, I. (2001) ‘Informated Identities and the Spread of the Word Virus’, ephemera: critical dialogues on organization, 1(2): 149-162. [www.ephemeraweb.org]
Murphy, T. S. (1997) Wising Up the Marks: The Amodern William Burroughs. Berkeley: University of California Press.
Nietzche, F (1969) Thus Spake Zarathustra. Penguin, London
Nietzsche, F. (1989) Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, trans. Walter Kaufmann. London: Vintage.
Nietzsche, F. (1994) On the Genealogy of Morality, ed. K. Ansell-Pearson, trans. C. Diethe. Cambridge: Cambridge University Press.
Packard, V. (1957) The Hidden Persuaders. Harmondsworth: Penguin.
Parker, M. and R. Cooper (1998) ‘Cyborganization: Cinema as Nervous System’, in J. Hassard and R. Holliday (eds) Organization/Representation: Work and Organizations in Popular Culture. London: Sage.
Plant, S. (1997) Zeros and Ones: Digital Women and the New Technoculture. London: Fourth Estate.
Russell, J. (2001) Queer Burroughs. New York: Palgrave.
Searle, J. (1984) Minds, Brains and Science. Cambridge: Harvard University Press.
Sennett, R. (1997) The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Life in the New Capitalism. New York: Norton.
Smith, W., M. Higgins, G. Lightfoot and M. Parker (eds.) (2001) Science Fiction and Organization. London: Routledge.
Taussig, M. (1992) The Nervous System. London: Routledge.
Taylor, F. W. (1911/1967) The Principles of Scientific Management. New York: W.W. Norton & Company.
ten Bos, R. and C. Rhodes (2003) ‘The Game of Exemplarity: Subjectivity, Work and the Impossible Politics of Purity’, Scandinavian Journal of Management, 19(4): 403-423.
Thanem, T. (2001) ‘All that is Solid Melts into Air: ephemera and the Monument’, ephemera: Critical Dialogues on Organization, 1(1): 30-35. [www.ephemeraweb.org]
Thompson, E. P. (1967) ‘Time, Work Discipline, and Industrial Capitalism’, Past and Present, 38: 56-97.
Thompson, P. and S. Ackroyd (1995) ‘All Quiet on the Workplace Front? A Critique of Recent Trends in Industrial Sociology’, Sociology, 29(4): 615-633.
Westwood, R. and S. Linstead, (eds.) (2001) The Language of Organization. London: Sage.
