ИСТОРИЯ БЕЗУМИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1. ОТСТУПЛЕНИЕ
Начнем не литературным сюжетом о художнике Павле Федотове (1815-1852), биография которого показательна для данной статьи. Еще в молодости живописца «к головной и глазной боли часто присоединялись… некоторое нервное расстройство и бессонница» [Дружинин, c. 52]. Говорили, что «безумие давно уже исподволь подступало к нему, и если бы не обычная федотовская скрытность, это бы заметили гораздо раньше июня 1852 года!» [Кузнецов, c. 298]. Весной 1852, у Федотова обнаружились признаки острого психического расстройства. Друзья и начальство Художественной Академии поместили его в частную петербургскую лечебницу для душевнобольных, а Николай I выделил деньги на его содержание. Болезнь прогрессировала, осенью 1852 года знакомые выхлопотали перевод Павла Андреевича в больницу Всех скорбящих. Здесь Федотов умер 14 ноября того же года, забытый всеми, кроме немногих близких друзей.

Картина “Анкор, еще, анкор!” была написана Федотовым между 1851-1852 гг. В центре композиции, разумеется — крест, который продолжается светлой выпуклой стороной горшка. Именно через крест мы смотрим на маленькую частичку внешнего мира, где видим сугробы, заснеженный дом с красными окнами и мрачное небо — лишь минимальная часть картины, остальное же ее пространство заполняет тесная изба, залитая тусклым светом — отображение замкнутого внутреннего мира человека, который только через миниатюрное окошко видит ограниченную реальность. Под окном на столе — красная скатерть, ассоциируется с рядом христианских мотивов, на ней — с разных сторон — две свечи. Одна рядом с человеком, она символизирует его тусклую жизнь: еще горящая и распространяющая неестественное освещение повсюду. Но по ту сторону креста стоит потухшая свеча. К тому же она просвечивает, как призрак. И еще рез утверждает ее значение потустороннего — 0 расположение свечи подле пустого “дома”, собранного из книг (библия? книга образует с нижней книгой равносторонний треугольник, в котором мистики узнают символ завершенности).
Мужчина, видимо, военный, (его ли внутренний мир отражен кругом его?), заставляет пса прыгать через палку. Белый пудель уже появлялся на других работах Федотова, в “Завтраке аристократа” 1850 г, там он — полная противоположность Анкору: голова вверх, чистый и ухоженный с золотистым ошейником, застыл и смотрит на руку, отодвигающую штору. Двумя годами позднее у пса всклокочена шерсть, он с поникшей мордой смотрит в пустоту, устал от бессмысленных прыжков, от бессвязных выкриков хозяина. Вся композиция отражена тавтологичным названием: “encore” — на французском означает “еще”. Безвыходное замкнутое бесконечно повторяющееся состояние: еще, еще, еще.
Ни один предмет за пределами стола не показан целиком, видны лишь какие-то части. Эти предметы прячутся друг за друга, переплетаются, образуют какую-то сумбурную композицию, создают ощущение статичной динамики, даже собака сливается с темнотой. Если изба эта --внутренний мир, то с ним явно что-то не так. Единственное, в чем человек здесь находит ясность — композиция на столе — знание того, что он смертен, надежда на то, что в засмертном мире он обретёт порядок…
2. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В 1762 г.
“Апреля 20. Высочайшеутвержденный доклад Сената. — О постройке для безумных особенных домов и об отдаче имений, принадлежащих безумным под надзоре наследников”. В этом докладе разбирался частный случай о безумных князе Андрее и Князе Сергее Козловских. Опираясь на многовековую традицию и прежние законы, Сенат “разсуждает, что как оных безумных Князей Козловских, так и впредь таковых же, дабы они, будучи у родственников, по безумию своему в непристойные поступки не впали, ежели они родственники иметь их безумных у себя не пожелают, надлежит отдать под начал в монастыри”.
Доклад завершает резолюция государя Петра III:
“Безумных не в монастыри определять, но построить на то нарочный дом, как то обыкновенно и в иностранных Государствах учреждены долгаузы” [ПС законов стр. 982]. (нем. dollhaus — “дом для безумцев”).
3. БЕДЛАМ
Такое название у прозаической миниатюры опубликованной в Журнале "Гирлянда" в 1831 году, и подписанное "С Англ. Н. Ш-въ"
Бедлам принадлежит к числу тех примечатеьных мест в Лондоне, которыя любопытно видеть каждому иностранцу. Знакомый Гарлея, молодого путешественника, показавший ему разныя редкости, предложил осмотреть и Бедлам.
По сути, нам сообщается, что дом сумасшедших для Лондонцев наравне с достопримечательностями. Понятно, чем интересны культурные места города: эстетическое наслаждение, в 30-х годах 19 века сложно было найти изображения из города, иностранцам интересно увидеть и узнать правдивую историю или красивую легенду, которую для них придумывали местные… Но почему путешественникам нравится смотреть на запертых умалишенных?
По сюжету, проводник вводит Гарлея и его друзей в отделение, “где заключены были неизлечимые”. (Обратим внимание, что произведено разделение больных). Гости стали просить их увести поскорее, но проводник удивлялся такому желанию и настаивал на том, чтоб они посмотрели на тех, что пострашнее: Так точно Фигляры показывают иногда диких зверей. Наконец он провел их в другое отделение, в котором помещались менее опасные, и потому пользовавшиеся некоторою свободою. <…> Гарлей отстал от своих спутников, засмотревшись на человека, который, начертив мелом на стене сегмент круга, пересекал его кривыми линиями, и делал разныя вычисления. — Вот в этот момент у Гарлея проявляется такой больной интерес, он явно наслаждается, думая об этом человеке и его занятии.
Гарлею подходит мужчина и рассказывает, что помешанный был математиком, достиг некоторых успехов, но “немогши добиться толку на счет одного светила, рехнулся”. Другой “играл значительную роль на бирже <…> вдруг ему понесчастливилось: он сделался банкротом и наконец лишился ума”. Третий “был довольно хороший учитель, и поместился здесь для разрешения встреченных им недоумений, на счет правильного произношения Греческих гласных”. Гарлей рассуждает с незнакомцем о высоком, но как только его собеседник обронил, что является Ханом Татарским, Гарлей “по благоразумию, скрыв удивление, поклонился своему спутнику низенько, с честию, подобавшею высокому его сану, и в ту же минуту пошел догонять своих товарищей”. Те были в отделении с женщинами, “многия из них обступили вошедших к ним особ их пола и с черезвычайным любопытством, какого от них ожидать было нельзя, принялись разсматривать наряды”. Там они замечают девушку, которая такая расхорошая, что ее все замечают, надзиратель рассказывает ее историю: любимый мужчина равного происхождения, но не равного состояния, уезжает в Индию, чтоб разбогатеть и получить разрешение ее отца на женитьбу, но умирает от лихорадки. Отец вынуждал ее выйти за богатого скрягу, “отчаяние по умершем и отвращение к живому, довели ее до настоящего положения”. Она говорит что ее возлюбленного больше нет, Гарлей возразил – “он в небесах”. “Мы там встретимся? И этого ужасного человека с нами не будет (проговорила она, указывая на смотрителя)?… Ах! прости меня, Боже! Я позабыла о небе”. — очевидна авторская позиция, она и сошла с ума
В конце Гарлей вручает две гинеи надзирателю со словами “не будь жесток с этою несчастною” — вышел из Бедлама с стесненным сердцем и слезами на глазах.
Сам текст не выделяется ни слогом, ни описанием сумасшедшего дома (Из бытовых подробностей, мы только и узнаем, что делится Бедлам на отделение мужское, женское и там, где содержатся неизлечимобольные), ни острыми шутками и ни оригинальными слезливыми местами (даже на момент публикации то, что имеется в “Бедламе” комического или сентиментального — весьма штамповано). Но, несмотря на все значимые недостатки, есть несколько сильных мест, важных для нашей темы — это фраза Гарлея: Страсти иногда доводят нас до безумия, и нередко бывают гибельны в своих последствиях. — Вот в чем автор находит причину безумия и поэтому для него важна набожность, и если бы девушка, потерявшая возлюбленного, помнила о небе, она спаслась бы от страстей и сумасшествия.
Другую идею высказывает тот же безумец, который представился Ханом Турецким:
Весь свет, в глазах Философа, есть пространный дом сумасшедших.
Мысль не старая и не новая, но важно, что ее доносят даже до женщи — настолько автор счел это важным для человечества. Есть другие произведения, в которых эта мысль не только присутствует, но и раскрывается.
4 . ДОКТОР КРУПОВ
В этом произведении все сказанное о безумцах обладает большим влиянием на читателя, поскольку сочинение приписывается врачу, имеющему непосредственное отношение к безумцам. В первой части подробно расписывает свою биографию, как заинтересовался медициной и особенно психиатрией — наблюдая за другом детства, Левкой, который, взрослея не смог освоить грамоту, с каждым был честным, жил в гармонии с природой; односельчане сочли его дураком, мальчишки и мужчины били и смеялись над ним, отец Крупова распорядился Левке «скроить дурацкий кафтан», который стал, как униформа, выделять его от остальных — «гонения и насмешки удвоились».
Доктор рассуждает: нормально ли поведение тех, кто ради развлечения издевается над Левкой, не безумнее ли они? Или все ли в порядке с разумом родного отца Крупова? он же крайне против медицинского образования для сына. Вторая часть: Крупов наблюдает за пациентами домов умалишенных
Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшего Левки, то есть, что официальные, патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех. Странные поступки безумных, раздражительную их злобу объяснял я себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает беспрерывным противуречием, жестким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных; вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастие явно безумных — их гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные, со всею злобою слабых характеров, запирают их в клетки, поливают холодной водой и проч.
Крупов осуждает главного доктора сумасшедшего дома, уверяя, что он был даже “более поврежденный, нежели половина больных его”. Поскольку требовал обращаться к нему так, словно он в высочайшем чине, и постоянно спорил с пациентами:
«Я китайский император», — кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться.
Понятное дело, что неправильно провоцировать больного, и Крупов неоднократно это подчеркивает, предлагая свой метод общения с безумцами, основанный на том, что между собой они живут мирно и признают друг друга :
Я, <…> подходил к нему с видом величайшего подобострастия. «Лазурь неба, прозрачнейший брат солнца, — говорил я ему, — плодородие земли, позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуется океан, что вода имеет счастие освежать священную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа».
И больной улыбался и позволял с собою делать все, что я хотел.
Обращаю особенное внимание на то, что я для этого больного не делал ничего особенного, а поступал c ним так, как добрые люди поступают друг с другом всегда — на улице, в гостиной.
И автор “Бедлама” и Герцен, во-первых, показывают жестокое обращение с заключенными в доме сумасшедших; во-вторых, что не
Основная же идея произведения содержится в следующей фразе:
Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно, как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми (самые бешеные собою совершенно довольны), но признаваемым за таких другими.
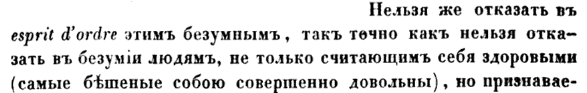
esprit d’ordre — “стремление к порядку”? на худой конец, “сознание порядка”? По крайней мере, логично предположить из контекста, что Крупов использует французское выражение в прямом его значении, а не в несуществующем, поскольку он не ставит крест на безумцах, а находит в их поступках не меньше “порядка”, “сознания”, рацио, чем в поведении многих людей, которых общество безумцами не признало.
Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия. Главные признаки расстройства умственных способностей состоят:
а) в неправильном, но и непроизвольном сознании окружающих предметов;
б) в болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным даже вредом самому больному, и отсюда -
с) тупое и постоянное стремление к целям несущественным, а упущение целей действительных.
В 3 пункте чувствуется нечто, подсказывающее, что это не про сумасшедших, а про каждого из нас. По идее, эти признаки доктор находил, исследуя дома безумия и обобщал свои наблюдения. Остановимся пока здесь и посмотрим, к каким выводам нас это приведет после нескольких описаний странного поведения людей, никакого отношения к палатам с сумасшедшими не имеющих.
Так он наблюдает за своею кухаркой, регулярно спаивающей мужа, а после он ее регулярно избивает, а она регулярно жалуется и, все с той же регулярностью, отказывается лишить мужа вина или терпеть домашнее насилие. Доктор следит за чиновниками канцелярии и находит их аналогичными безумцам из другого заведения. Показывает частную жизнь супругов, которые не выносят друг друга, но живут в одном доме. Особое внимание уделим наблюдениям за соседом Крупова. Когда в город заезжал с ревизией какой-нибудь чиновник,
“Сосед мой, получивши весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству <…> дожидался часы целые. Генерал (ибо в эти минуты чиновник V класса чувствовал себя не только генералом, ногенерал-фельдмаршалом ) принимал просителя, <…> не воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал; что вся его просьба, <…> чтобы: его превосходительство изволило откушать у него завтра или отужинать сегодня; <…> <весь день хлопотал, а в конце> Шампанское лилось у скряги за здравие высокого проезжего. И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И что еще важнее для психиатрии, — что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал. Каковы диагностические знаки безумия!
А какова внутренняя связь в тексте с фрагментом из прошлой главы (!), где один безумец из пятой палаты совершенно мирным путем уверил остальных, что соседи должны отдавать ему половину от своей порции в каждый прием пищи. Но самый захватывающий момент — когда Крупов рассуждает о новостях из газет, о религиях, о всемирной истории:
Слезы умиления не раз наполняли глаза мои при чтении. Я не говорю уже об аугсбургской газете, на нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страждущих душевными болезнями. Нет! Чтобы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие
В части «Выписка из журнала» очевидна авторская, герценовская ирония в том, какие выводы делает доктор — признак, что автор не дает нам уйти далеко от мысли, какую он сам считает важной: конечно же не нужно считать всех подряд безумцами, кто поступает необдуманно. Те, слишком обобщенные признаки безумия, выведенные Круповым в лечебнице потому указывают на все население Земли как на безумцев, что среди наблюдаемых были и те, кого не следовало бы сумасшедшими считать. Конечно же, автор призывает читателя отойти от интуиции, близиться к рациональному и думать о своих поступках. Как раз потому, что главный доктор не задумывается над критериями безумия, со своими странностями, он сам угождает под определение безумца.
4.
Идеи следующего нашего автора нередко сравнивали с Герценовскими и находили общее: универсальный энциклопедизм, «платоновская» диалогичность, фрагментарность, а главное — решительная борьба за целостность, синтетичность мира и знаний, что невольно сближало «шеллингианца» с «гегельянцем» [В. Сахаров]. Посмотрим, схож ли с Герценом Одоевский в вопросах темы данной статьи.
Главное, что теперь следует рассмотреть у него — “Русские ночи”. Кстати, изначально сборник новелл планировался издаваться под названием “Дом сумасшедших”, о котором сообщает Н.В. Гололь И.И. Дмитриеву в третьем письме (Петерб., 30 ноября 1832 г.)
Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей, вроде «Квартета Бетговена», помещенного в «Север[ных] Цветах» на 1831. Их будет около десятка, и те, которые им написаны теперь, еще лучше прежних. Воображения и ума — куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке! Они выйдут под заглавием «Дом сумасшедших».
«Письма», I, стр. 228–229.
Формально, произведение строится на ночных собраниях молодых товарищей. Фауст — так прозвали одного из них, зачитывает записи, оставшиеся ему от умерших друзей, они исследовали “некоторых людей, которые, живя между другими, в большей мере пользуются названием великих, или названием сумасшедших”. Во второй ночи Фауст зачитывает несколько фрагментов из небольшой тетрадки с довольно странным эпиграфом: Humani generis mater, nutrixque profecto dementia est (Безумие, конечно, мать рода человеческого и кормилица).
«В самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли, проходя сквозь выражение? <…> Простолюдин понимает своего собрата, но не слова светского человека; светские люди понимают друг друга и не понимают ученого; <…> поставьте простолюдина перед выражением мысли мудрейшего из смертных: тот же язык, те же слова,— а низший обвинит высшего в безумии! И после этого мы еще верим нашим выражениям, мы не боимся предавать им своих мыслей? И мы осмеливаемся думать, что смешение языков прекратилось?
Если Герцен говорит, что люди недопонимают друг друга, потому что почти никто не действует рационально, то Одоевский находит причину недопонимания в выражающем языке, а он присущ каждому человеку, и все примерно в равной степени лишены возможности быть полностью понятыми. Ровно так же, как абстракция науки не может быть переложена на реальность, будучи слишком рациональной для человеческой, интуитивной сущности (“При всяком математическом процессе мы чувствуем, что к нашему существу присоединяется какое-то другое, чуждое, которое трудится, думает, вычисляет, а между тем наше истинное существо как бы перестает действовать…”) Само только выражение, в чем бы не проявлялось, является схематичным по отношению к выражаемому.
Один из наблюдателей природы пошел еще далее: он возбудил сомнение еще более горестное для самолюбия человеческого; рассматривая психологическую историю людей, которых обыкновенно называют сумасшедшими, он утверждал, что нельзя провести верной, определенной черты между здравою и безумною мыслию. Он утверждал, что на всякую, самую безумную мысль, взятую из дома сумасшедших, можно отыскать равносильную, ежедневно обращающуюся в свете. <…> Какое различие между понятием одного сумасшедшего, что когда он движется, движутся все предметы вокруг его, и доказательствами Птоломея, что вся солнечная система обращается вокруг земли?
Похоже, что тот человек, о котором читал Фауст и прообраз доктора Крупова мыслят весьма схожим образом. Здесь и частные примеры из наблюдений, и созерцание безумия как
И, что всего замечательнее, состояние гения в минуты его открытий действительно подобно состоянию сумасшедшего, по крайней мере для окружающих: он также поражен одною своей мыслию, не хочет слышать о другой, везде и во всем ее видит, все на свете готов принести ей в жертву. Мы называем человека сумасшедшим, когда видим, что он находит такие соотношения между предметами, которые нам кажутся невозможными; но всякое изобретение, всякая новая мысль не есть ли усмотрение соотношений между предметами, не замечаемых другими или даже непонятных? Так нет ли нити, проходящей сквозь все действия души человека и соединяющей обыкновенный здравый смысл с расстройством понятий, замечаемым в сумасшедших? На этой лестнице не ближе ли находится восторженное состояние поэта, изобретателя, не ближе ли к тому, что называют безумием, нежели безумие к обыкновенной животной глупости? <…> то, что мы часто называем безумием, экстатическим состоянием, бредом
Но гений, постоянно ли он находится в состоянии сумасшествия, или это сродни временному выходу из нормального психического сознания (состояние аффекта или вдохновения)?
Ночь Шестая. В ней мы знакомимся не просто с безумцем, но с безумным гением — на кого тоже повлияла болезнь ушей, но не обострила слух, а убила его.
6. “ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА”.
Весной 1827 года, несколько любителей музыки исполняли новый квартет Бетховена. Но то, что играют они, совершенно не похоже на музыку, которую писал композитор в лучшие свои годы:
“Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов; художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста, огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях,—погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные, шутливые темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, не существующим в музыке; везде какое-то темное, не понимающее себя чувство.
Такое описание кажется несоответствующим музыке бетховенского последнего струнного квартета (№16), конечно, скачки и трели можно обнаружить во второй его части vivace. Но все остальное, особенно если рассматривать вцелости, слишком похоже на другое произведение Бетховена, написанное чуть ранее — Большая фуга для струнного квартета. И действительно, первое исполнение 16-го квартета состоялось 23 марта 1828 года — уже после смерти композитора [belcanto1]. В то время как Große Fuge, Op. 133 исполнялась в его присутствии, и в личном списке квартетов Бетховена фуга помечена как квартет №17 [belcanto2].
Тогда понятно, причем тут строгий контрапункт, обилие диссонансов, и звуки, которые в музыке не существуют. Но важно понимать, что эти произведения не соответствуют современным своим названиям не только для того, чтобы описание совпало с содержанием. А, для того, чтоб иметь представление о том, какие скандалы фуга производила, появившись на свет (*на звук). Эту музыку нельзя слушать и одновременно представлять, как в это же время, где-то в Петербурге на балу Пушкин флиртует с
Они думают, что я ослабеваю; я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбались, разыгрывая мой квартет,— вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом.
Бетховен ведет себя как сумасшедший: то кричит: “Я слышу! слышу!”, будучи совершенно глухим, то принимает воду в стакане за роскошное вино и расхваливает его как только умеет (отметим, что превращение воды в вино — затертая метафора — превращающая безумца в блаженного). Но что с его музыкой?
Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; Напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр; я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо <…> я открыл, что колокола—самый гармонический инструмент, который c успехом может быть употреблен в тихом адажио. В финал я.введу барабанный бой и ружейные выстрелы,—и я услышу эту симфонию, Луиза!—воскликнул он вне себя от восхищения.—Надеюсь, что услышу,—прибавил он, улыбаясь, по некотором размышлений.
Все его стремления и изобретательность направлены на то, чтобы услышать. Он хочет услышать реальный мир, а не свой внутренний, который обогнал звуковую действительность намного вперед.
Бетховен подошел к фортепьяно, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в 5 и 6 голосов проходили через все таинства контрапункта, сами собою ложились под пальцы творца «Эгмонта», и он старался придать как можно более выражения своей музыке… Вдруг сильно, целою рукою покрыл он клавиши и остановился.
То, что глухой играет на “немом” инструменте — своеобразная ирония, намного жестче, чем слепой музыкант в “Моцарте и Сальери”, и в то же время это мощный образ, демонстрирующий максимальное отчуждение Бетховена от реальности. Не только он не слышит, но и его совсем не слышат. От того невероятного произведения, которое звучит в воображении учителя, Луиза понимает только ритм, только глухой стук деревяшек по корпусу.
Вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить.—Так! я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен.— Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки?… Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие,—то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить ксептим-аккорду , которого истинных свойств никто не понимал до меня…
Имеется ввиду то, что в 1910-х Генри Коуэлл назовет кластером — самый естественный способ передать эмоции, для образа Бетховена, созданного Одоевским — эмоции выходят на первейший план:
Сравнивают меня с Микельанджелом — но как работал творец «Моисея»? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменною оболочкою- Так и я!
Все что делает Бетховен — ищет настоящий звук вместо воображаемого. Все его новаторства или странности появляются побочно от поиска живого звука, настолько жаждет его слух иссохший от безмолвия мира. Сочетая в аккорде несколько полутонов подряд, он, может быть, и заставил рояль резонировать и создал бы вибрацию, которую мог бы ощутить не ухом, а телом, но в рояле нет струн, и Бетховен этого не замечает. Не вибрацию ли он ощутил, когда скрипач взял несколько его нот, на исполнении фуги в начале новеллы?
После потери слуха, после попытки самоубийства, целью его существования стал поиск живого звука = жизни. Но перед ним встает еще одна задача — передать.
Знаешь ли, мне кажется, что я уж долго не проживу,—да и что за жизнь моя?—это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей.
В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий; оригинальные мелодии пересекают одна другую? сливаясь в таинственном единстве; хочу выразить — все исчезло: упорное вещество не выдает мне ни единого звука,— грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О! что может быть ужаснее этого раздора души с чувством, души с душою! Зарождать в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения!… Смерть души! — как страшна, как жива эта смерть
Считает ли Одоевский, что фуга — это то, что композитор не может передать? Да, и любое гениальное произведение, рождающееся в муках это только выхваченные кусочки того, что слышал автор. Большая фуга — это произведение травмы, результат попытки залечить ее — выговорить (методика, появившаяся в то же время, в какое поняли большую фугу).
А вот сумасшедший он гений или нет?
Впрочем, беспрестанная перемена квартир, глухота, род помешательства, всегдашнее недовольство,— кажется, все это принадлежит к так называемым историческим фактам в жизни Бетховена; только добросовестные сочинители биографических статей не взялись, за недостатком документов, объяснить связь между его глухотою и помещательством, между помешательством и недовольством, между недовольством и музыкою.
Поскольку для Одоевского “убеждения человека могут иметь влияние на музыку, на поэзию, на науку”, тем сильнее на музыку влияет психическая травма, которую Одоевский тесно связывает с безумием, и это безумие передает, хоть и размыто, музыка Бетховена. Поэтому его не понимают современники, как безумца не понимают… не безумцы.
Почему же литераторы той поры начали защищать безумцев? Когда Петр III велел не отправлять сумасшедших в монастыри, а строить специальные для них учреждения, светская власть забрала у духовной безумцев себе. Что позволило производить политические махинации. Самым громким примером, пожалуй, является прообраз Чацкого, П.Я. Чаадаев.
В 1836 году, в 15 книге “Телескопа”, в отделе “Науки и искусства” опубликована статья “Философские письма к
…Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья — Государю Императору угодно, чтоб Ваше Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству. [Тарасов, с. 310]
Существует легенда, что врач, призванный наблюдать его, сразу познакомившись сказал: «Если б не моя семья, жена да шестеро детей, я бы им показал, кто на самом деле сумасшедший». [Википедия2] А еще Говорили, например, что Чаадаева велено посадить в сумасшедший дом, если доктора определят у него расстройство ума, или сослать куда-нибудь подальше от столицы, если признают его здоровым. [Тарасов, с. 315]
Кстати, касательно самой статьи интересна реакция Одоевского, спровоцировавшая ход работы над его сборником:
Глупая статья Чаадаева затворяет рот всякому, кто бы хотел вступиться за литературу. Как мне жаль, что я не успел прежде окончить печатание моего Дома Сумасшедших; два года тому назад, не имея почти никакого понятия о мыслях Чаадаева, я написал эпилог, заключающий книгу и как будто нарочно совершенно противоположный статье Чаадаева… [Тарасов, с. 321]
В любом случае, как бы не отзывались литераторы о Чаадаеве самом, они понимали, что по-сути не сумасшедший он, а визиты врача к нему — всего лишь спектакль, для отвода глаз. Каждый понимал, что политическое, оппозиционное высказывание грозит по меньшей мере тем же наказанием. При том, что история сохранила биографические сведения некоторых людей, которые угодили именно в специальное место для безумцев. Такова судьба корреспондентки, своего рода ученицы Чаадаева — Пановой Екатерины Дмитриевны — к которой, видимо, и обращались изначально “Философские письма”. Несмотря даже на все, с Чаадаева был снят контроль через год после публикации в телескопе.
То есть, его нервное расстройство “оказалось” временным. В этом смысле интересно поискать и аналоги временного помешательства в литературе того времени. Пока не ушли от Одоевского, можно вспомнить и эпизод из Русских ночей, “Насмешка мертвеца” 1834 и “Сильфиду” 1837, но на этот раз рассматривать будем фрагмент из “Княжны Зизи” 1839.
Речь тут пойдет о сестре княжны Зизи, Лидии, которая всегда жила полной жизнью, выезжала с маменькой в свет, быстро нашла мужа, много танцевала, любила примерять новые платья, которые были для нее как игрушки, она не подходила при этом к моде серьезно. И вот, она забеременела во второй раз, но произошел выкидыш, а сама девушка в тяжелом состоянии в своей спальне, рядом — сестра и муж.
Иногда больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских балов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить, — и ей расстилали на постели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказывала уносить все свои уборы.
Девушка, чувствуя приближение смерти, ведет себя, наверно, не так уж и странно, хотя поначалу и похоже на расстройство рассудка. По началу Лидия говорит о балах, и скорее всего, понимая, что не сможет посещать их. Для нее атмосфера бала — музыка, танцы, знакомства, флирт, особые манеры и подачи, разговоры — это необычайно важная вещь, уносящая ее из реальности в другой, светлый радостный мир, и сложно осознавать, что с ним придется расстаться. Разговоры о балах как бы скрашивают атмосферу, уводят от дурных мыслей. Ее наряды — отчасти то же, но уже на ступень дальше. Вспоминается «Бедлам», когда Гарлей и его друзья и подруги зашли в отделение с женщинами, “многия из них обступили вошедших к ним особ их пола и с чрезвычайным любопытством, какого от них ожидать было нельзя, принялись разсматривать наряды”. Опираясь на литературу (нон-фикшн тоже), можно с уверенностью сказать, что между женщиной и одеждой в ту эпоху выстраивали необычайно сильные связи, словно духовные: не похоже, что женщина одевается для себя или кого-то другого, а только ради самой одежды. Поэтому сложно сказать насколько здесь это вообще показатель нервного расстройства. Тело ее истощилось от бурных вечеров, преждевременных и сложных долгих родов, и теперь Лидия пытается отвлечься от него, отказаться, переключиться с действительного тела, на “тело социальное”.
Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде:
— Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый… ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я бедная, глупенькая!
Но иногда в минуты бреда на Лидию находил припадок ревности. — Что вы на меня смотрите? — говорила она, — вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга… я это знаю. Только берегись, Зинаида! он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет… У него много бумаг, разных бумаг… он все пишет, пишет…
Слова ее превращались в рыдание или хохот.
То есть, самое безумство показывается именно здесь, основанное на контрасте: есть Лидия, пребывающая в сознании — она добрая, и хочет свести мужа с сестрой, которая действительно испытывает к нему влечение. Есть Лидия, в минуты бреда, в ней ревность заставляет ее препятствовать их сближению. И желание оставить сестру с мужем счастливыми, и жестокие, кипящие в ревности, обвинения обоих — исходят из одного понимания, что ее муж притягателен для Зинаиды, но в первом случае это чувство — “воспитанное”. Схематизируя, оно основано на долге сделать добро обществу, в то время как последнее — инстинктное, отталкивается от безумного эгоизма. Но, тем не менее — Лидия безумна еще спрашивая о балах, а аффективные рыдания или хохот — иная фаза безумия.
Конечно, этот пример помешательства, поскольку связан со страхом смерти, а затем с ее принятием, может быть, не совсем корректно разбирать именно как временное помешательство, но это следует сделать оттого, что встречается в литературе описание предсмертного “помешательства” очень уж часто.
Потрясающе показано это в “Лесном царе”, переведенном Жуковским в 1818, (оригинал текста написан Гете за год до рождения Жуковского). На предсмертных видениях мальчика баллада и строится. В датском и немецком фольклоре фигура короля леса ассоциируется со смертью, он приходит к умирающим людям. [Википедия3] И именно этим сюжет и зацепил романтиков, стремящихся к фантастическим образам слитым с реальным миром — над стершимся образом смерти появляется красивый и мистический образ лесного царя, новый и живой образ! Романтики любили оживлять разговоры о смерти.
По структуре “Лесного царя” очень любят всегда делить на фрагменты: введение — голос рассказчика, далее — прямая речь, распределенная между отцом, его сыном и лесным царем, затем — заключение рассказчика. Этим текст понравился Шуберту, в 1815 году он написал балладу для одного голоса, но характер музыки меняется, словно написаны четыре разные партии. Этот ход в лесном царе будут использовать с тех пор по-разному вплоть до современной адаптации этого сюжета в песне “Dalai lama” Rammstein.
Интересно, что Kind Жуковский, Григорьев и Фет переводят одним и тем же не самым точным русским аналогом «малютка». Но Жуковский повышает напряжение этой сцены, создавая антропоморфный образ Лесного царя, отнимая у оригинала хвост:
Фет: “Отец, иль не видишь ночного царя?
Лесного царя, что в короне, с хвостом?”
Жуковский: “Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой”
Приближая галлюцинацию к действительности, тем самым делает ее страшнее, поскольку в такую проще поверить и сложнее отличить ее от реальности. Таким образом, Жуковский наряду с двоемирием создает двусмысленность, поскольку густая борода царя становится визуальной метафорой тумана, про который ему отвечает отец.
Тем временем ребенок слышит голос духа:
«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».
<…>
«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».
Мальчик слышит вещи, о которых имеет представление как о приятных вещах, о райских наслаждениях. Неосознанно предчувствуя смерть, он видит полусон с прекрасными радостными пейзажами, с очаровательными девушками — игровой и эротический акцент. Для нас важно установить, что есть ребенок с искаженным имровосприятием, и есть отец, который имеет реальное восприятие, он показывает, чем на самом деле являются образы, распознаваемые сыном. Ребенок чувствует приближение конца, боится его и, чтобы хоть как-то примерится с ним снит себе приятный мир. Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать.
Интересно, что ребенок жил до последнего, пока скакал отец, но как только ездок доскакал…\В руках его мертвый младенец лежал. — скачка связана с борьбой (особенно это слышно на Шуберте):рассудка и помешательства — отца и сына, но все же легче поддаться соблазнительному простому миру, которое рисует безумие, чем продолжать бесконечную борьбу в действительности.
В том числе — борьбу с властью
7. Заключение
В завершение, хотелось бы закончить про Федотова. В перерывах между приступами, он общался с посетителями, рисовал, а однажды прочитал своему товарищу свое новое сочинение — басню “Слон и Попугай”
Эта басня отличалась необыкновенной странностью основной мысли и беспорядком в сочетании идей. Лебедев откровенно высказал свое мнение о ней, на что Федотов возразил, что он уже не раз слышал эти упреки в странности, и спросил, неужели он стал большим чудаком, чем был прежде. При этом глаза его как-то лихорадочно горели, но улыбка была все такая же кроткая и приятная.
[Дитерихс, c. 134]
За несколько дней до смерти он окончательно пришёл в сознание, “пожелал приобщиться Святых тайн, прочитал письмо, полученное незадолго от отца, обнял своего верного денщика Коршунова… и долго, долго плакал” [Толбин, 62].
В литературе того периода можно выследить несколько общих мест, связанных с отношением к безумию: писатели настаивают на том, чтобы к безумным относились гуманно, показывают, что психиатрия не имеет точных критериев, по которым можно отследить безумен ли человек или нет. Показывает, что с каждым человеком могут происходить ситуации, когда его поведение может напоминать безумие. Литература видит для себя угрозу в психиатрии, поскольку, за смелые мысли можно было получить обвинение в безумстве со всеми вытекающими последствиями.
