«Что видела Жар-Птица» и как хранила сказочников. Тамиздат военной эмиграции

В 2023 году вышла в свет книга «Что видела Жар-Птица» — экспериментальное собрание текстовых миниатюр, родившихся на «сказочных мастерских» Дарьи Апахончич, которые проводились в течение ‘22-23 гг. в Тбилиси для детей с опытом войны и военной эмиграции из Украины, Беларуси и россии.
Филолог по образованию, опытная учительница, яркая художница, антивоенная активистка, — Дарья сумела соткать флюидное пространство пересечения языка, художественного образа, визуальной формы, исторического опыта, социальной совместности и психологического восстановления. Практики группового устного творчества с незапамятных времён были известны своими поддерживающими и объединяющими свойствами, и потому именно они были выбраны основной рамкой для помощи детям в проживании опыта боли и утраты. Встречаясь на ощупь среди своих новых нигде, за пределами гражданств и роковых причастностей, люди 6-13 лет объединялись в создании странных бесплотных миниатюр — из тонкой материи собственной тоски и надежды (и мог ли быть у них лучший проводник, чем Дарья — с её собственным опытом изгнания, с её непревзойдённым мастерством сказочницы?). Так, сплетаясь в прочную и многослойную нить, истории горевания и мечты становились историями встречи и общности.
Впрочем, с точки зрения структуры книги, они послужили лишь первым, основополагающим элементом: в действительности, «Жар-Птица» оказалась виртуальным порталом для самой настоящей творческой артели, объединив под одной обложкой искания сказочников, художников, переводчиков текстов на три языка (украинский, английский и картули) и многих других важных участников, без которых этот необычайный слепок военного времени не мог бы появиться на свет. Так обеспечивается многослойность общей полифонии книги — кажущаяся подходяще прочной для новых попыток совместного обитания в мире и доверия ему.

Подобные опыты хрупких, но экзистенциально-интенсивных единств становятся неочевидным решением одного из главных парадоксов войны. С одной стороны, она представляет собой отчётливо коллективный, общий, единый опыт; с другой, она становится местом предельного одиночества каждого отдельного человека: будучи оторванным от своего обычного мира, он внезапно опрокидывается в непредсказуемый хаос исторического бедствия, теряя доступ к любимым, к значимому — и к прежнему себе. В этом смысле, сплетение новых трепетных сетей совместности — прямо поверх общего шторма — одно из последних оставшихся нам движений надежды, один из последних возможных шагов к перезагрузке соприсутствий в мире, утратившем мир. Кажется, заветное истинностное тождество А=А больше не доступно иначе там, где, захваченные исчерпывающим одиночеством, мы утрачиваем доступ к подлинной общности беды. И напротив: в открытии общности горя войны восстанавливается и обретает зримость общность как принцип, как предпосылка целостности каждого, как важное условие принципиальной воплотимости его неповторимого бытия.

Этот образ паутины, в свою очередь, находит отражение также и в композиции книги. Собранная как пёстрое лоскутное одеяло, она образует интенсивное интертекстуальное поле, которое располагает одновременно и к утончённой «игре в бисер», и к восторженно-лёгкому вечевому со-бытию. Концептуально это означает, что мосты между историями и изображениями (часть из которых создана самими сказочниками) выстроены как бы в параллельных регистрах, в параллельных смысловых и поэтических пространствах. При этом, как единый топос для обитания работают не только непосредственно изрекаемые тексты. Через их призму графические изображения, покрывающие страницы, словно сами притворяются их частью, ритмически и ассоциативно примыкая к их потокам. И наоборот: подражая орнаментальности графики (и изумлённо подсматривая её у мхедрули), тексты на украинском, английском и русском то и дело застывают на миг в графических позах-узорах, как бы приглашающих к почтительности перед языковыми и сюжетными паузами.
Такое алхимическое соединение языка, орнамента, цвета, снов, осколков воспоминаний, недодуманных грёз, синтаксических спонтанностей, сюрреалистичных гротесков, неожиданных изображений, потайных чаяний и витальной околесицы — оказывается мощным эстетическим телом, пульсирующим среди истории в умело скроенном поле сотворчества (парадоксально случившегося среди абсурда военной эпохи).
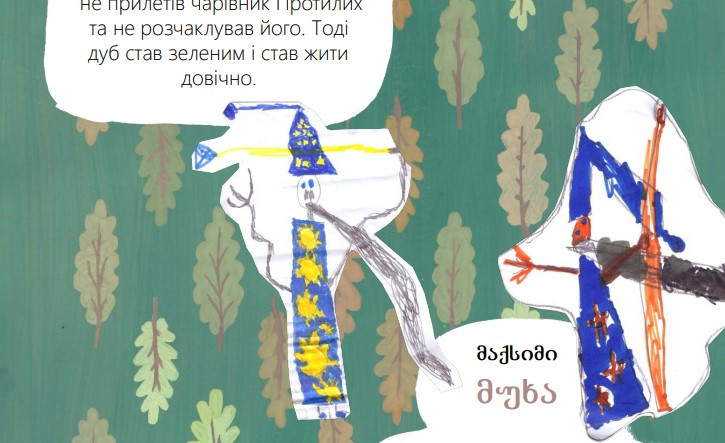
Не менее удивительно политическое полотно «Жар-Птицы». Образованное переплетением языков и экзистенциальными опытами разных пространств и длительностей, оно позволяет им парадоксально встретиться далеко за пределами разделённости государственными границами, военной агрессией империи и символической индексацией систем власти. Сказка становится той (не)былью, в которой живые, спасаясь от логики мёртвого, и спасая от неё свой язык (как последний оставшийся дом), воссоединяются за пределами политической картографии, среди рассыпавшегося времени, и на совершенно новых основаниях — заботы, нежности, красоты, игры и сопричастности. В реальном мире политической истории всё это пока что невозможно. Но сказка оказывается подходящим «вывихом» пространства для такой встречи живых — вопреки всему.
Чему он может помочь сегодня? Кому и для чего нужны эти уязвимые и трепетные паутины над штормом?
Во-первых, бытийная встреча в живом опыте сказительства сама по себе, как длящееся мгновение настоящего — один из немногих сохраняющихся способов превозмогать боль утраты, проживать опыт горевания — не сгорая вменённым одиночеством. Вечевые встречи в речи — спасительное пространство со-присутствия друг с другом, самими собой и миром (в особенности для тех, кто пришёл в него совсем недавно). В этом смысле и сами сказочные мастерские, и их слепки — важная глава в повести о спасении беззащитных и обездоленных — среди безвременья войны.

Во-вторых, устойчивая канва сказочного повествования, с одной стороны, позволяет помыслить окружающий хаос в терминах напряжённой, но всё-таки композиции — органичной, упорядоченной и, главное, имеющей будущее, в котором непременно есть место главному герою. Так, остраняя происходящее и обретая в отношении него метапозицию художника, сказочник отвоёвывает право разглядывать любой путь в его внутренней логике: в ретроспективе и перспективе, за пределами собственного опыта и опыта как такового, а главное — принципиально доступным любой необходимой перекройке. Возвращая герою возможность влиять на происходящее, он и сам обретает силу храброго путника, неуязвимого даже перед собственными чувствами. Пожалуй, это упражнение — одна из самых древних из известных человечеству техник себя — маршрутов субъектности, никогда не утрачивающих собственной ценности.
С другой стороны, устойчивая канва сказки открывает в некоторых частях маршрута неочевидные стороны красоты — силы, утешающей, примиряющей и таящей радость для всякого решительного путника. Не этот ли опыт красоты как нельзя лучше подходит для противостояния уродливым силам разрушения?
И, наконец, структура сказочного нарратива всегда обращена к фигуре смысла, и в этом отношении сочинитель сказки занят, прежде всего, смыслополаганием. Не потому ли именно роль сказочника — наиболее очевидный способ привнести смысл туда, где абсурд катастрофы обрушил все прежние? Таким образом, опыт сочинения сказки фактически оказывается настоящим гносеологическим ковчегом, подлинным выражением потаённой воли к бытию и радости. И хотя, по меткому замечанию переводчика сказок сборника «Жар-Птицы» на картули, они поражают нехарактерной непредсказуемостью повествования, а также явственностью опыта подавляющей тоски, — всё же в них странным образом сохраняется главное из того, что составляет своего рода «кокон» сказки: интуитивное смыслополагание и подлинно целебная фабульность.

В этом отношении, они оказываются интересны не только как аутентичные слепки живых и спасительных практик скорби и солидарности, но и в качестве самобытных высказываний, пересобирающих феноменологию сказки и подключающих её к непреклонно-хаотичной материи военного времени. В той мере, в какой сегодня она составляет прискорбную ось нашего совместного настоящего, эти голоса изнутри шторма — несомненно, один из значимых элементов общей полифонии звучащих из него свидетельств. Остаётся надеяться, что сказочной канве удастся однажды вывести и своих сказочников, и своих героев туда, где они, наконец, смогут свидетельствовать о мире так, как захотят сами, а не так, как этого требуют война и изгнание.
