Рэй Брасье. «Новый нигилизм»
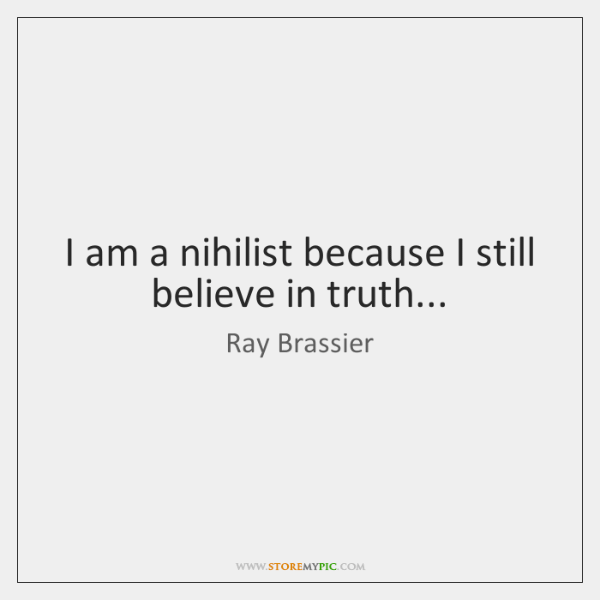
Предисловие
Рэй Брасье — безусловно, один из наиболее радикальных философов современности. И в то же время — спустя 11 лет после выхода его основополагающей книги Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction — наименее исследованный среди широко обсуждаемых сегодня философов, которых причисляют к представителям или сторонникам «объектно-ориентированной философии». Не имея перед глазами ничего кроме оригинала, я рискнул осуществить подробное и развернутое прочтение его философии, невольно создав набросок, который, как я надеюсь, впоследствии превратится в книгу.
Введение
Философия Рэя Брасье, которую иногда называют «новым нигилизмом», «новым материализмом», «нигилизмом тепловой смерти» или ошибочно отождествляют со спекулятивным реализмом К. Мейясу — не только одна из наиболее сложных философских систем, но, вместе с тем, и одна из наиболее очаровывающих и интересных, при этом — относительно мало исследованных в современной философской мысли. Чтобы добраться до «ядра» этого нигилизма, представленного в его работе Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction (которое умещается на 34 из 239 страниц книги), необходимо проделать извивистый и сложный путь: через Черчланда и Селларса, критику Просвещения (в репрезентации Адорно и Хоркхаймера), обсуждение мимикрии и мимесиса, через поддержку спекулятивного реализма Мейясу, идеи Ничто и События в изложении Бадью, масштабнейшую деконструцию «не-философии» Франсуа Ляруэля и изобретение не-диалектической негации, критику понятия «времени» у Хайдеггера и деконструкцию мышления и смерти в том виде, в котором они предстают в «Различии и повторении» Делеза — весь этот путь совершается для того, чтобы прийти, через Ницше, Лиотара и Левинаса, к… Фрейду с его идеей «влечения к смерти»!
Однако, усиленная философскими контекстами, приобретенными методами и понятиями, философия Брасье имеет с «фрейдизмом» очень мало общего, будучи одним из вариантов не-корреляционистской системы мысли. Для изложения основных положений этой вариации «плоской онтологии» было бы достаточно сосредоточиться на последних 34 страницах — Главе 7 «Истина вымирания» (The Truth of Extinction). Однако, ввиду недостаточной изученности взглядов философа (тем более, на русскоязычном пространстве), для цельности картины я затрону некоторые моменты из предыдущих частей.
Новый элиминативизм
Философ отталкивается от тех же изначальных вопросов, что и
1. феноменальный опыт и феноменологическое восприятие лишены реляционных и функциональных свойств;
2. нам известно лишь, что это — некий потенциально объектифицируемый нейробиологический процесс, функционально выводимый из других серий процессов;
3. мы не знаем о феноменологическом (феноменальном) восприятии ничего конкретного (как знаем нечто конкретное о других нейробиологических процессах);
4. но именно этот процесс запускает весь процесс «корреляции» «мышление — бытие», а значит, его правильное понимание должно было бы быть краеугольным камнем (ядром) обоснования доминирующей в метафизике и эпистемологии парадигмы корреляционизма;
Вывод: и поскольку мы ничего о нем не знаем, мы не знаем, насколько полон и объективен, лишен андро-антропоцентристской когнитивной деформации наш доступ к Реальному.
В качестве способа доступа к Реальному, более или менее отвечающего его адекватной репрезентации, Брасье, как и Квентин Мейясу, полагает науку и, в частности, ее объективированные, обезличенные (можно сказать: без-субъектные) предложения. Главным образом — протокольные предложения, не относящиеся к субъекту наблюдения, математические выражения и высказывания из области феноменологии естественных наук (частично математические, частично — логико-эпистемологические и даже метафизические). Однако, дискурс остается дискурсом — пускай даже это дискурс о Реальном. Он никогда не станет Реальным и никогда не будет его аппрезентировать: в лучшем случае, мы «пришиваем» нашу репрезентацию к Реальному. Понятие «архиископаемого» Мейясу использовано Брасье не только для изложения собственной онтологии, но также для критики «Диалектики просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера. В частности: «Лишая голоса нерефлексивную и нерефлексируемую имманенцию естественной истории, спекулятивный натурализм Адорно и Хоркхаймера в результате обращается в натуралистическую теологию» (Brassier 2007: 48).
«Архиископаемое» — это «материал, указывающий на следы существования ‘предковых (ancestral)’ феноменов, которые предшествовали возникновению самой жизни» (ibid.: 49). Наиболее характерный пример архиископаемого — радиоактивный изотоп, по периоду распада которого мы способны определять возраст других феноменов (звезды, квазары, скалы, океаны) и иные их характеристики (расстояние от Земли, масса, состав и т.д.). Наиболее же существенным, на мой взгляд, архиископаемым, как и наиболее древним, является реликтовое излучение — первичный «шум» самой Вселенной, реферирующий исключительно к ней самой, вне конкретных объектов, находящихся в ее пределах. Нет такого объекта Х, относительно которого мы можем сказать: он испускает реликтовое излучение. Его фон — нечто пребывающее за любым конкретным мыслимым объектом. Естественная история (история природы) начинается с архиископаемого, которое начинает эру «доисторического», период, когда мышление не было экземплифицировано ни в одной области Вселенной. Сам факт наличия подобного периода, по мнению Брасье, опровергает любое утверждение корреляционистов о реципрокности человека и природы (на которой настаивает множество философов). Я неспроста остановился именно на этом моменте, проигнорировав большую часть обсуждения автором идей Мейясу и «Диалектики просвещения»: фактическая не-реципрокность является прекрасным примером для раскрытия содержания нового понятия, которое вводит Брасье: не-диалектическая и
Не-диалектическая негативность, будучи непонятийной, независима от сознания: она реализуется «за пределами понятия» (ibid.: 44), действуя между объектами полностью независимо от их отношения к субъективности. Такая негативность как форма активности, как процесс, реализует фактическую неразделимость самотождества объектов и их одновременной себе-нетождественности.
Мимикрия / мимесис
Одно из фиксируемых проявлений форм не-диалектической негативности в живой материи затрагивается Брасье весьма широко, приводя к серьезным онтологическим выводам — это его анализ мимесиса и мимикрии. Всякая мимикрия включает в себя мимесис (маскировка включает ту или иную форму подражания!), однако не всякий мимесис является мимикрией. Мимикрия — это прогрессивное изменение состояния, направленное на среду, в то время как мимесис — это регресс псевдо-отождествления с себетождественным Другим. Брасье рассматривает случай листотела (Phyllium), древесного насекомого, которое, в случае опасности, имитирует гниющие, испорченные и разлагающиеся листья, которыми питаются сами листотелы. Ввиду этого, среди особей вида, как пишет об этом Роджер Калуа, проявляется «спонтанная» (не заложенная изначально в генетический план виртуальности поведенческих стратегий) аутофагия — некоторые листотелы поедают других, пребывающих в состоянии мимикрии.
Такого рода мимикрия представляет собой пример сосуществования в одном нумерически объекте одновременно жизни и смерти. В нигилизме философа она характеризуется как «танатропическая мимикрия» — спасение посредством поворота к смерти. Как свидетельствует автофагия среди листотелов, мимикрирование смерти (умирающей пищи) запускает «коллапс тождества» листотелов на видовом уровне, стирая их отличие от их же пищи, превращая их, даже на внутривидовом уровне, в некую форму «живой смерти». Живая смерть представляет собой пример радикального самоотчуждения объекта: его сосуществование со своим собственным не-существованием в одном пространстве и, что важнее всего, в одном времени. Фактичность «живой смерти» нарушает принцип непротиворечивости, однако, сам принцип непротиворечивости является не бытием как таковым, а лишь нашей попыткой репрезентации Реального в понятии. Тот, кто оперирует этим понятием, сам приписывает свойство (не-/)противоречивости сравниваемым объектам.
(Замечу при этом, что танатропическая мимикрия не влияет на качество элементарных частиц, из которых состоит организм. Протон не распадается ни при жизни, ни при смерти, ни при живой смерти. Мы можем допустить, что, в момент сосуществования двух модальностей существования объекта, обычно следующих одна за другой (то есть, контингентно возможных для этого вот конкретного объекта в темпорально отличные друг от друга отрезки времени), одна из них оказывается детерриторизированой (в данном случае = лишеной протяженности). Однако, природа контингентности как абсолютной возможности, а не ограниченной вероятности, основываемой на нашем знании, которое, в свою очередь — результат серии наблюдений, такова, что сосуществование этих состояний контингентно возможно.)
Танатропическая мимикрия «указывает на принуждение, где организм доведен до дезинтеграции в неорганическое» (ibid.: 43), являясь не детерриторизацией, но скорее наоборот — ассимиляцией в пространство! Бытие, для того, чтобы заключить о парадоксальности живой смерти, должно быть объектифицировано, и единственная попытка объектификации бытия — представление пространства-времени в качестве объекта. Однако, как возражает Брасье: «Пространственно-временные отношения должны пониматься в качестве функции объективной реальности, а не объективная реальность должна пониматься в качестве функции пространственно-временных отношений» (ibid.: 59). Бытие схватывается через отношения, но эти отношения — не область привилегированного доступа для мышления, поскольку они абсолютны. Условиями противоречивости живой смерти являются объектификация таких понятий, как «жизнь» и «смерть», но и они лишь описывают ход пространственно-временных отношений, не будучи сущностями, объектами. Становление-едой в танатропическом мимесисе может быть как средством защиты (избежание нападения хищника на себя как на себя, а не как на Другое, на объект, который хищником видится в качестве добычи), так и средством нападения (превратившись в пищу добычи, хищник выжидает, когда добыча подберется ко мнимой «еде» и т.д.). Средство, в свою очередь, как и отношение, необъектифицируемо. Попробуем представить живую смерть феноменологически: это пространственно-временные отношения объекта с самим собой и с другими объектами, такие, в которых подавление, хранящее органическую особь от распада на неорганические компоненты, снимается, превращая этот распад в фундаментальное оружие как способ действий против среды, в которую вовлечен объект. Устанавливается «взаимообратимая эквиваленция между доминирующей и подчиненной силами, силой и бессилием, органическим и неорганическим» (ibid.: 46).
Промежуточный вывод: живая смерть — не парадокс, поскольку «жизнь» и «смерть» — не сущности, которые где-то «пребывают» и которые можно объектифицировать; смена одного состояния другим наблюдается как различие двух состояний лишь до определенного горизонта наблюдения, обусловленного когнитивнвым аппаратом и арсеналом вида; за этим горизонтом различие становится неразличимым (мы не можем сказать, является ли ненаблюдаемый, но фиксируемый протон протоном «мертвого» или «живого», органического или неорганического).
Способ существования физических объектов, которые мы называем «органической жизнью», «организмами», отличен от остальных физических объектов, классифицируемых как «неорганические», во всех смыслах количественно, а не качественно: количеством атомов, из которых состоят «живые ткани»; количеством температуры, интенсивности, соотношения потенциальной и кинетической энергий и др. Единственно парадоксальной вещью в перспективе такого понимания будет выглядеть вещь, которая действительно будет самотождественной с «классической» точки зрения. Тогда «разум» — это лишь эффект маскировки, мимикрия смерти, как и сама жизнь в целом. Жизнь в непрерывно остывающей Вселенной, которая неуклонно идет к абсолютному распаду на
Бытие-ничем
Брасье предлагает, исходя из этого, понимать бытие как «бытие-ничем». Это не гегелевская ненаполненность наиболее общих понятий. Ничто — это не просто функция, отношения, но и не некий объект или свойство. Скорее, это конечный вид бытия как Одного, как Единого. Бытие не является объектифицируемым постольку, поскольку оно, как Единое — суть Ничто, пустое, объемлющее Все, стирая это Все в конечном счете в то, что философ называет «нулевой степенью материи». Нулевая степень материи (интенсивности, имманентности) — не-материя, не-нечто. Бытие-ничем — это бытие в качестве ничто, первой катастрофой для существования которого становится Большой Взрыв, временно нарушающий бытие-ничем.
И если мышление выводится из центра любой корреляции — а оно выводится из него в силу своей недостаточной артикулированности, ложной претензии на центрированность в бытии — реальность необходимо мыслить как объективное Нечто, существующее независимо от любых трансцендентных условий его манифестации. Такое существование мыслимо при допущении, что изначальный уровень манифестации — нулевая степень материи. Фундаментальная асимметрия, фундаментальная не-диалектическая негативность проявляется здесь так, что, «несмотря на то, что мысли нужно бытие, бытие в мысли не нуждается» (Brassier 2007: 85). Реальное, мыслимое в свете его доисторичности, реальное как «архиископаемое», не нуждается в реинкорпорировании Реального через некое ноэтическое поле как условие архи-дизъюнкции, той дизъюнкции, которая, собственно, и постулируется как корреляция: «ноэтическое — Реальное».
В свете бытия как
Для того, чтобы доказать эту невозможность редукции и, шире, постулировать «подлинно материалистическую» несводимость Реального к мысли, по Брасье, спекулятивного реализма недостаточно, поскольку понятие контингентности Мейясу остается, фактически, одним из концептуальных средств par excellence, хотя и концептуальным средством, несводимым к корреляционистским / дуалистским инструментам. Активным способом утверждения материалистической репрезентации реальности для философа становится нигилизм, основания которого изначально развиваются им через понятие пустоты в философии Бадью.
Теоретико-множественный дискурс о Реальном: знак ∅
Бытие-ничем, как было сказано, не является сущностным утверждением Ничего как ненаполненности. Рассуждение о Бадью проясняет (ibid.: 97) ситуацию: речь о несвязанном ничем множестве, представляющем «фигуру» бытия, его «рисунок» в качестве Единого, состоящего из множественностей, к этому единству несводимых, но и немыслимых вне этого Единого в качестве «отдельных» сущностей. Для того чтобы подобная онтология была непротиворечивой, следуя Бадью, можно обратиться к единственной репрезентации, относительно независимой от самого мышления — от особенностей мышления, делающих корреляцию «мышление — бытие» ничего не стоящей вследствие «видового солипсизма», которому мышление подвергает любую онтологизацию реальности. Речь идет о представлении онтологического дискурса с помощью теории множеств, чьи дискурсивная презентация и правила аксиоматизации не определяются философскими понятиями, а проистекают из композициональной определенности (ibid.: 100). Математизация бытия у Бадью (и, следом за ним, у Брасье) становится в конечном счете математизацией онтологии, «контр-хайдеггерианской» (ibid.: 98) по своей сути, поскольку бытие мыслится не как некий трансцендентный «абсолютный критерий истины», но как дискурс о мире посредством не-мирности в своем основании.
Именно посредством аксиоматизации дискурса о бытии через дискурс теории множеств можно сказать, что бытие — это Одно, но
Таким образом, можно утверждать, считает Брасье, что не-бытие (non-etre) Одного, о котором мы говорим, что это Одно = бытие, и является в точности репрезентацией номологического статуса структуры бытия; и это не-бытие асимптоматически сходится с
«Теорема избыточной точки показывает, что степенное множество всегда больше, чем α, хотя бы на один элемент. Её дополняет теорема Коэна-Истона, показывающая, что избыточное включение абсолютно неизмеримо. Поскольку счёт элементов (множеств) неизбежно включает неисчислимые части (подмножества), метаструктуру или счёт счёта (count-of-the-count — М.К.), содержательность презентации с необходимостью компрометируется латентной несодержательностью, которая включается в счёт, не принадлежа ему» [перевод — с моими изменениями; М.К.] (Брасье 2008: 68).
«Бытие-ничем» и «не-бытие» несодержательного множества означают упомянутую не-локализуемую точку, не-локализуемое пространство, точку, неопределяемую как «эта» сингулярность, поскольку она охватывает собой бытие вообще. Презентированное бытие презентировано как ничто, как чистая непоследовательность и фактическая несодержательность, но такая несодержательность сущностно и является тем, что мы мыслим как бытие и как структуру Реального, как само Реальное в своем сущностном свойстве, а именно — в «свойстве» ненаполненности-несодержательности. Все, что ре-презентируется, презентировано из пустоты, из
Текст Брасье становится все более интенсивным: «В конце концов, только лишенный значения знак, ∅, указывает на изначальный надлом, посредством которого презентация смещает присутствие и намертво связывает себя с меткой непрезентируемого. ∅ является изначальным надрезом, который обозначает петлю между содержательностью и несодержательностью, не-бытием и
Наконец, Реальное
Реальное, утверждает Брасье (Brassier 2007: 137) — не ничто «как пустота», как пустое «не», но
«Х одновременно является определяющим субъектом и определенным объектом, оставаясь радикально индифферентным к различию между Х и Y, объектом и объектификацией (или детерминированным объектом и субъективной детерминацией)» (Brassier 2007: 141). Наше разделение между различением / неразличимым остается объектифицируемым различением лишь до того момента, пока детерминация-в-последней-инстанции (Реальное) не ведет к эффекту неразличимости Реального посредством объектификации. И такая закрытость Реального для объектифицирующего синтеза (не-диалектического синтеза известного объекта с объектом знания) ведет к тому, что любая реальная диадическая оппозиция (вроде оппозиции между «мыслимым» и «немыслимым») уже является невозможной на уровне Реального (хотя и возникает на уровнях не-Реального — на степенях бытия, превышающих нулевую). Подобное «пустотствование», по Брасье, — способ описания делающей-односторонней (unilateralizing) мощности детерминации-в-последней-инстанции (ibid.: 148); эта односторонняя дуальность (закрытость бытия-ничем и закрытость бытия от мысли), в силу того, что она, эта дуальность, выводимая из «пустотствования», является именно способом описания, должна быть отличена от
Уровни бытия «свыше» нулевого Брасье мыслит через метафизику, черпающую вдохновение у Франсуа Ляруэля, а именно — через метафизику прерывистости. Объект не «пришивается» к субстанции бытия, которая размещается на «нулевом уровне» (нулевой уровень — это ничто, а не субстанция, которая была бы чем-то объектифицируемым!); это скорее «прерывистый вырез в ткани онтологического синтеза»: «Абсолют или некорреляционная объективность лучше схватывается в терминах асимметрической структуры, которая прерывистость объекта полагает прежде мышления» (ibid.: 149). В свете такой метафизики объект не мыслится как то, что определяется мыслью — феноменологическим восприятием, интуитивным постижением, первичным или вторичным или n-ичным схватыванием, ре-презентацией и т.д.: скорее, сам объект заполняет собой мысль, охватывает ее, «схватывает», заставляя мысль мыслить себя и определяя характер этой мысли, предопределяя мысль мыслить согласно себе самому (according to it). Прерывистость пространства-времени как отношений, посредством которых бытие репрезентировано на уровне свыше «нулевого», односторонним образом определяет мысль и, одновременно, через это асимметричное «приказывающее» мысли определение, утверждает и выражает нигилизирующую мощь бытия-ничем как такого ничто, которое разрушает корреляционистскую репрезентацию пространства-времени. Эта мощь утверждена через диахроническую асимметрию времени бытия мышления и его конечности и времени бытия объектов мысли и их конечности.
Нигилизм: переоценка бытийных ценностей
Все указанные интерпретации бытия, жизни, смерти, органического и неорганического, мышления и бытия, которые встречены на протяжении работы, как демонстрирует «насыщенный» финал книги, методологически укоренены в нигилизме Ницше. Как и его нигилизм, методологический нигилизм Брасье — не отбрасывание одного и принятие чего-то «нового», но, скорее, опыт переоценки того, что ранее полагалось неизменно ценным / лишенным ценности; само собой разумеющимся / необычным. Это превосхождение оценок и новое оценивание, выражаемые словом transvaluation. Переоценка, в свою очередь — это всегда не-диалектическая негативность, осуществляемая через транспозицию и утверждение. Утверждение такого рода как негативность не-диалектично, потому что диалектическое утверждение — это захват старого как
Производя переоценку мышления и места человека во Вселенной, Ницше рассказывает «притчу», лежащую и в основании философии Брасье:
«Когда-то, в отдаленном уголке Вселенной, рассеянной в бесчисленных солнечных системах, была когда-то звезда, на которой умные животные изобрели знание. Это было самое высокомерное и лживое мгновение “мировой истории”, впрочем, лишь одно мгновение. После того, как природа вздохнула еще несколько раз, звезда остыла — а разумным животным предначертано было умереть. — Можно было бы придумать такую притчу, и все же она недостаточно иллюстрировала бы, каким жалким, призрачным и мимолетным, каким бесцельным и произвольным исключением из всей природы является наш интеллект. Были целые вечности, в течение которых его не было; и когда он снова окончит свое существование, ничего не случится. Ибо у этого интеллекта нет никакого назначения, выходящего за пределы человеческой жизни» [http://nietzsche.ru/works/other/about-istina/] (перевод частично изменен мной — М.К.).
«От изначального возникновения, — комментирует Брасье этот отрывок, — органической чувствующей материи до полного вымирания человеческого разума ‘ничего не случится’» (Brassier 2007: 205.). В свете этой переоценки, философ производит переоценку феномена «утверждения» Ницше и «воли-к». Как известно, «утверждение возвращения того же самого» в метафизике Ницше — одно из центральных или даже центральное понятие. Это утверждение как утверждение имеет своим истоком: (1) антигегельянство философа, т.е., осмысленную, продуманную, набросанную противоположность осмысленную, продуманную, набросанную противоположность гегелевской Негативности; (2) антипозитивизм Ницше, фактически вынуждающий его мыслить метафизически. Само по себе утверждение вечного возвращения является «одновременно аннигиляцией всех известных ценностей и созданием неизвестных» (ibid.: 207). В свете безразличия реальности относительно ценностей, такое стирание-утверждение для Ницше необходимо исключительно в свете проблемы различения начала и конца в сущностном смысле. Сами же ценности — не что иное, как эпифеномен воли к власти, генетического элемента дифференциации, который продуцирует и ценности. Сама воля к власти — суть нечто доступное и известное нам как воля; изначально эта воля возможна лишь в негативном аспекте. Это все та же антигегелевская (по замыслу) не-диалектическая негативность ницшевского нигилизма: утверждение вечного возвращения того же самого как вечное возвращение начала и конца (и как их одновременное различение) — суть утверждение немедленного и прямого совпадения в этой начальности-конечности ценности и лишенности ценности; утверждения и отрицания; имманентности (бытия) и трансцендентности (даяния условий для возникновения уровней интенсивности за пределами degree-zero, в том числе — и
Особого внимания в анализе воли как
Таким образом, в качестве содержания Утверждения [возвращения], ницшеанского антипода гегелевской Негативности, здесь мыслится затмение боли и страданий переживанием удовольствия. И тогда понятия «вечного возвращения» и «воли к возвращению», «воли к воле» перестают быть метафизическими — они в определенном смысле «десакрализируются», потому что оказываются доступны каждому. Каждый человек, обладающий понятиями удовольствия и зла (woe) может желать удовольствий и избегать зла — и почти каждый действительно является этим «стихийным эпикурейцем». А значит — воля к власти и воля к воле, ницшеанское «желание всех желаний», желание и утверждение вечного возвращения — не «путь избранных» и не выбор «немногих», но нечто, доступное всем и стихийно (нерефлексивно) всеми и желаемое; таким образом, воля к ничто — массовое явление, а не исключительно продукт философского разума.
В обоих случаях — направляясь и на самое себя, и на нечто вне, на конец — воля эта является воплощенной негативностью. Это — воля к ничто. Переоценка всех ценностей ведет к тому, что воля превосходит свою собственную волю к знанию, волю к истине, уничтожая само понятие истины или переворачивая его. Воля «волит сама себя и становится позитивной. Она узурпирует истину и становится автономной или causa sui» (Brassier 2007: 215). Воля, которая не мыслит истину и не мыслит в направлении к обладанию истиной, утверждает бытие исключительно как «творящий принцип», лишенный познаваемости — это чистое бытие-ничто само по себе, лишенное возможности объектификации и немыслимое через модальность «быть в качестве объекта знания». Негативная воля к ничто манифестирована сперва в «знании», которое, вследствие переоценки в логике эпистемы нигилизма, лишается ценности: авторитет знания подрывается. В конечном счете, такая негативность воли к знанию, направленная на себя, ухватившись за свое естество, конвертирует себя в утвердительную волю, в позитивность, которая, оставаясь направленной сама на себя, утверждает нечто противоположное эпистеме истины: это бессмысленная и обесцененная жизнь, подошедшая к своему концу (заведомо подошедшая в общем смысле, безразлично к текущим пространственно-временным состояниям). И эта позитивность утверждения возвращения является фокальной точкой становления, моментом освобождения активности от
А понятия, согласно нигилистической переоценке, подлежат лишению своего содержания, не его выхолащиванию или деконструкции, но аннигиляции их логического объема вместе с их смыслом, который сам по себе умирает вместе со всем смыслом или смыслом как таковым. «Единственный смысл, в котором прошлое и будущее становления существуют — это их фиксация как коррелятов nunc stans, вечного настоящего утверждения» (ibid.: 220). В целом же, становление такого рода (утверждающее становление) = бытию-в-себе, которое = нулевой степени бытия, бытию-ничто-и-ничем; а это бытие, как мы помним, никогда не может быть объектом ре-презентации. Именно поэтому вся эта позитивность утверждения становления является одновременно и негативностью. Становление «нацелено на ничто и достигает ничто», не нуждаясь ни в собственном фактуальном утверждении, ни в своей негации.
«Смерть» неорганического, «смерть» самой Вселенной, остывание космоса и распад объектов на звездную пыль и элементарные частицы (после того, как смерть лишается смысла, который придает ему человек) — в глубинном смысле являются не отрицанием витального различия (сама «витальность» оказывается пустым бессодержательным необъектифицируемым ложным понятием) — это скорее выражающаяся интенсификация различия. Что действительно интересует в этом разбирательстве Брасье, так это исток характера желания воли, причина такого, а не иного содержания воления — воления как
Реальное как Смерть — это не стирание «различия» (глубинных онтических разломов, постулируемых нами в качестве различий), но, скорее не-диалектическое тождество различия и неразличенности, энтропии и негэнтропии (ibid.: 223). Мышление не мыслит смерть должным образом — к этому можно прийти лишь разбив понятие «смерть» в классическом обыденном и метафизическом смысле (как это сделано сейчас) и утвердив ее в качестве этого не-диалектического тождества, следствием которого для философии должна стать, наконец, возможность метафизически и онтологически помыслить смерть всякой мысли.
Гибель Солнца и вымирание разума
К ней, следуя поздней работе Ж.-Ф. Лиотара «Продолжится ли мысль без тела?», Брасье приходит через постулирование такой глубинной мысли в свете метафизического коллапса горизонта человеческого бытия. Помыслить этот коллапс, согласно Лиотару, необходимо в перспективе «солярной смерти» — взрыва и остывания Солнца, который неизбежен через ~4,5 млрд. лет. «Все, что закончилось или конечно должно быть отражено в нашей мысли, если оно мыслится как завершенное. И это — истинные границы возможности принадлежности чего-либо к мысли. Однако после смерти Солнца, не будет мысли, которая будет знать о том, что пришла смерть» (Lyotard 1991: 9). В этом смысле все, что происходит на Земле и, уж тем более, в человеческом обществе — все уже мертво, умерло вместе с умирающим и неизбежно конечным в своем умирании Солнцем. «Мысль прибирает к рукам горизонт и ориентацию, беспредельный предел и бесконечный конец, даваемые ей, из телесного, сенсорного, эмоционального и когнитивного опыта, приобретаемого в ходе довольно изощренного, но однозначно укорененного в земном, существования — которому опыт обязан как своему источнику. С исчезновением Земли мысль остановится, оставляя это исчезновение абсолютно непомысленным (непродуманным). Исчезнет сам горизонт, а с его исчезновением придет конец и вашим трансценденции в имманенции» (ibid.: 9-10).
Продолжая «притчу Ницше», Лиотар указывает на фокальную точку конца мышления вследствие вымирания: мышление лишится своей имманентности, центр которой — в том, что оно мыслит само себя. Смерть Солнца неизбежно = смерти разума, поскольку смерть Солнца — это смерть самой смерти как конечной точки эмпирического разума, смерть бытия-к-смерти сознания. В нейтральном смысле, эта «смерть смерти» представляет собой простое изменение определенного состояния материи и соотношения ее с энергией, декомпозицию «сборки». Солнечный взрыв, в отличие от ядерного или метеоритного, не оставит ни «опустошенного человеческого мира», ни даже «дегуманизированного»: последние предусматривают наличие мертвого человека, тем или иным образом вовлекая его образ в образ этого мертвого мира; этот мертвый мир все еще мыслим, однако, то, что остается после солнечного взрыва, не будет мыслимо, поскольку будет лишено даже «лишенности человеческого», полностью исключая разумную, чувствующую органическую материю и сам горизонт земного. Земля — форма организации материи и энергии, срок сохранения которой — несколько миллиардов лет. С точки зрения космологических масштабов — недолгое время. Масштаб этой «судорожной», эмерджентной, нарушающей единство структуры материи на наиболее фундаментальных уровнях организации в пространстве является еще более ограниченным, чем во времени: удаленный уголок галактики, удаленного уголка «всего космоса», ограниченный одной небольшой планетой. А точнее — ее поверхностью (даже не всем космическим телом!).
«Человеческая смерть включена в смерть человеческого разума. Солярная смерть подразумевает непоправимую и единственную дизъюнкцию между смертью и мыслью; если имеет место смерть, значит мысли нет. Негативность без остатка. Никакой самости, которая придала бы этому смысл. Чистое событие. Катастрофа. Все события и катастрофы, с которыми мы ранее имели дело и о которых пытались подумать в итоге обернутся бледными ее симулякрами» (ibid.: 11).
Солнечное вымирание сущностно не-феноменологично: для того, чтобы оставаться феноменальным переживанием, гибель солнца требовала бы сохранения той или иной формы воплощающей телесности и воплощенности (embodiment) в органическом. Мысль отделима от своей укорененности в органической жизни «в целом», через свои продукты, вроде синтаксиса, математики, метафоры или логики; при этом, она никоим образом не может быть отделена от своего материального субстрата, который ее воплощает (embodies). Смерть Солнца = смерть субстрата = феноменальное переживание умирания сознанием, реализованном на этом субстрате и только на нем. Исчезает само условие смертности как ухода из Dasein Хайдеггера. Это вымирание самим своим ходом де-артикулирует корреляцию. Смерть солнца, по Брасье, уничтожает само наше возможное отношение к смерти, мыслимое в любой метафизике, философии или обыденном сознании. Любая стратегия выживания, активность негэнтропической направленности (вроде пересадки сознания на более надежный «жесткий» носитель, с последующим продлением существования на этом носителе, металле, кремнии, электрическом сигнале и др.) представляет лишь несущественное с точки зрения бытия продление времени до неизбежного вымирания разума. Энтропия, несущая в себе потенцию полного вымирания космоса (с точки зрения человека) — его полного остывания — необратима и неизбежна; смерть Солнца — это конец Вселенной «в миниатюре», от которого мышлению скрыться, в конечном счете, не удастся. То, что принято называть «личностью» оказывается лишь способом существования объекта органической материи, еще одной формой пространственно-временных отношений, вписанной в предшествующие формы, из которых она возникла и которыми она опосредована.
«Рано или поздно жизнь и сознание ожидает расщепление любого горизонта, когда, приблизительно через 1 трлн. трлн. трлн. (10^1728) лет относительно сегодняшнего дня, ускоряющееся расширение Вселенной расщепит ткань материи как таковой, уничтожая возможность любого воплощения объектов. Каждая звезда во вселенной выгорит, погрузив космос в состояние абсолютной тьмы, не оставив после себя ничего кроме использованных ошметков сколлапсировавшей материи. Вся свободная материя, как на поверхностях планет, так и в межзвездном пространстве, разрушится и «сгниет», под корень вырвав всевозможные остатки жизни, основанной на протонах и химическом взаимодействии, стирая любые следы разумности — безотносительно их физической основы. Наконец, (…), трупы звезд, захламляющие пустую Вселенную, испарятся кратковременным градом элементарных частичек. Сами атомы перестанут существовать. Продолжится лишь неумолимое гравитационное расширение под действием необъяснимой ныне силы, которую мы зовем ‘темной энергией’, продолжающей погружать погасшую Вселенную глубже и глубже в вечную и бездонную черноту» (Brassier 2007: 228).
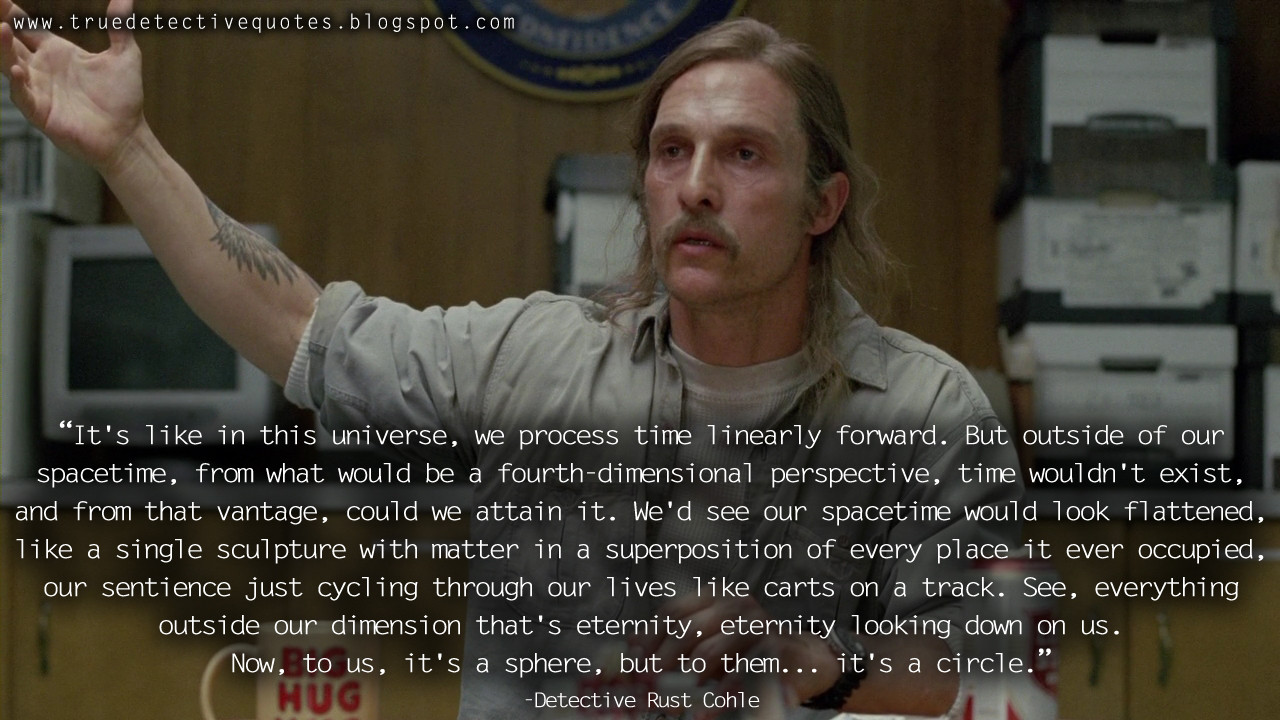
В этой перспективе и само возникновение «живого» (на уровне первых элементарных частиц, образовавших первый живой организм) можно представить (не-феноменологически) как «каскадный процесс» деградации неорганического, а в более общем смысле — как деградацию смерти до уровня жизни в ограниченном пространственно-временном «топосе» Вселенной. Вполне последовательно было бы представить черную дыру как объект, подобный листотелу, как одну из наиболее радикальных форм существования неорганической материи в качестве живой смерти, где под «жизнью» подразумевается нечто совсем отличное от критериев, предъявляемых к «органической жизни»: «жизнь» — это чистое наличие, а «смерть» — тотальная аннигиляция, полный и необратимый распад структуры на компоненты своих компонентов. Но и жизнь, и смерть, как бы они ни понимались, иррелевантны относительно бытия-ничем и его эффектов, относительно нулевого уровня бытия: это одностороннее, асимметричное, недиалектически-негативное влияние — бытие влияет на формы протекания этих процессов и сам факт их протекания, в то время как они на бытие никак не влияют.
Жизнь, даже в свете критериев современной науки (за пределами всякого рода «витализмов»), ограничена физико-химически: жизнь начинается лишь на уровне определенной «минимальной сложности». Согласно эволюционной истории, сложность жизни напрямую коррелирует с частотой и встречаемостью: чем сложнее форма организации органической материи, тем: (1) меньше встречаемых на этом уровне сложности видов живого; (2) меньше популяция этого вида (в сравнении с более простыми видами); (3) реже встречается этот вид в целом, синхронически и диахронически в естественной истории. Однако, «более сложное» или «более редкое» не означает априори «высшего» или «лучшего». Типичной ошибкой всякой философии и естественных наук было мыслить более сложное и редкое как нечто, превосходящее по своим качествам простое и распространенное. Во-первых, как было сказано ранее, существование более простого является более устойчивым и безболезненным. Во-вторых, если жизнь — это деградация не-жизни, отпадение от нее, сопровождающееся стремлением вернуться к исходному состоянию абсолютного тождества, к абсолютному ничто, вернее предположить, что более сложные и редкие формы жизни являются «низшими» с точки зрения общей структуры космоса.
Постериорность
Вымирание вследствие аннигиляции — способ окончательно объективировать мысль относительно бытия как
Постериорность — концепт вроде «доисторического» (до-корреляционного) времени Мейясу, означающий будущее отсутствие какой бы то ни было корреляции. Между двумя понятиями (или, скорее, пространственно-временными референтами) существует серьезная асимметрия, в связи с которой мы, по всей видимости, и не встречаем аналога постериорности в философии Мейясу: «В то время как дизъюнкция между доисторическим и антропоморфным временами выстраивалась как функция хронологии — на основании эмпирического допущения того, что первое предшествовало последнему и будет иметь место после него — между корреляционным временем и временем вымирания существует абсолютная дизъюнкция, а именно, такая, что последнее — не просто событие, локализуемое в пространстве и времени, т.е., нечто, чем можно манипулировать хронологически (…); оно, скорее, является вымиранием пространства-времени» (Brassier 2007: 230), что, естественно, подразумевает совершенно другое понимание отношений и функций.
Мышление как стратегия выживания остается такой стратегией выживания и после изобретения письменности или ионного двигателя, как длинные лапы, острые когти или способность к маскировке. Продукты культуры (изобретения, произведения искусства, теории) не являются «продолжением мышления» — они объектифицируемы и не зависят от мысли «в целом», в то время как мышление остается на том же уровне отношений с другими объектами, принуждающими его мыслить, не приобретая вследствие своего существования никаких привилегий. Эта непривилегированность в конечном счете оборачивается тем, что британский философ называет «травмой бесконечно другого» как существованием между двумя ужасами — ужасом нон-сенса и ужасом смысла. Первый отсылает к обреченности на нахождение в бытии без возможности убежать от него и
Травма вымирания / существования
В работе «По ту сторону принципа наслаждения» З. Фрейд выдвигает спекулятивную гипотезу, отталкиваясь от которой, Брасье выдвигает свое финальное «сильное утверждение», касающееся природы как сознания, так и самой жизни. Согласно Фрейду, «в душе имеется сильная тенденция к принципу наслаждения, но ей противодействуют известные другие силы и условия, так что конечный исход не всегда может соответствовать тенденции к наслаждению» (Фрейд 2017: 10). Таково исходное допущение относительно принципа наслаждения: на уровне бессознательного жизнь стремится к непрерывным сериям повторений наслаждения. Принцип наслаждения определенным образом «корректируется» посредством второго принципа — принципа реальности, который, в свою очередь, «требует и приводит отсрочку удовлетворения» через отказ от многих возможностей получения наслаждения здесь, сейчас и всегда в связи с рядом причин: недостижимость, чрезмерность, преграды, «инстинкт самосохранения». В конечном счете, происходит отсрочка — перенос удовольствия или переживание неудовольствия на пути к удовольствию.
Первичным же импульсом мыслится не стремление к удовольствию или к избеганию неудовольствия. Наиболее «первичным» с точки зрения существования организма является стремление организма к смерти или, если говорить более точно, возвращение его к изначальному состоянию. Изначальным травмирующим актом для всего живого является само восприятие. Восприятие организмом внешней среды — это всегда определенного рода раздражение, и организм пытается избежать его. Пойманный в клетку бытия и не имеющий возможности из нее убежать, организм вынужденным образом заставляет неудовольствие и раздражение, «закрывается» от влечения к смерти путем замещения раздражения удовольствием — с одной стороны, и посредством размножения — с другой. И в этот момент становится понятным внимание, с которым Брасье подходит к феномену мимикрии и мимесиса: импульсы, направленные на замещение и заставление стремления к смерти — множественные, разнообразные формы мимикрии, пути ухода от неудовольствий. Неприятное, травматическое может быть пережито через определенного рода «переработку» — переработку в форму и содержание переживания в качестве приятного (эстетически или физиологически); и если мимикрия — это сам способ такой переработки, ее факт, то мимесис — это средство, путь, которым приходят к мимикрии страданий. «Художественная игра и художественное подражание взрослых, которое, в отличие от поведения ребенка, предназначено для зрителя, не щадит его в отношении самых болезненных для него переживаний, как, например, в трагедии, и тем не менее может ощущаться им как высокое наслаждение» (Фрейд 2017: 22).
Травма жизни — это Реальное, запускающее волю организма к ничто. Реальность травмы, тем не менее, нельзя представить в терминах биологии или психологии (вопреки надеждам Фрейда). Ее нельзя подавить или пережить ресурсами сознания, поскольку сама она намного древнее и глубинней по своей сущности относительно живой материи, чем сознание. Она проявляет себя лишь в прерывании работы сознания, в повторах, в «выходах» бессознательного к первичности влечения к смерти. Фрейд переворачивает ницшеанскую перспективу воли к власти: не воля к ничто является формой воли к власти, но, скорее, воля к власти — одна из «масок» воли к ничто. Травма существует как «рана в бессознательном, которая продолжает резонировать в психической экономии как неразрешимое беспокойство, неутилизируемый избыток возбуждения» (Brassier 2007: 236). Травма существования оставляет нестираемый, глубинный импринт в бессознательном; сознание, пытаясь «защитить» организм от этой тягостной воли к ничто, примеряет ей разного рода маски, восставая вместо следа памяти, ведущего к этой первичной травме.
Этот травматический след, нестираемый импринт в бессознательном, является тем, с чем «Я» неспособно сделать ничего кроме вытесняющих замещений и становлений «вместо». Сознание фантазирует, порождая смыслы, творя новые объекты, которые — суть ничто в общем; кроме того, ничто из сотворенного неспособно каким либо образом совладать с травмой. На краю же бессознательного, в области психической энергии, даваемой «а-темпорально» (в связи с
Объективная реальность вымирания дает мне субъективное знание, единственное истинное знание, имеющее отношение непосредственно к Реальному, из которого это знание дано: мое субъективное осознание травмы, оставленной моим существованием. Мое знание о том, что все уже мертво или мое восприятие всего как
«Однако, признавая эту истину, субъект философии должен также признать, что он или она уже мертвы, и что философия — не посредник утверждения и не источник джастификации; скорее, она — органон вымирания» (Brassier 2007: 239).
Послесловие
Брасье — оригинальный и сложный философ. Его интересно читать, но прочтение, к которому я здесь прибег, требует параллельной работы и с первоисточниками, на которые опирается сам Брасье. Последний подраздел потребовал от меня прочтения буквально за час обсуждаемой работы Фрейда, читать которую приходилось буквально одновременно с «Inhuman» Лиотара. Вольности в переводе и некоторые спорные моменты я оставляю без комментариев исключительно на своей совести: на мой взгляд, добавления и изменения текста оригинала, дублирования и уточнения, помогли приблизить изначальный текст к более глубокому пониманию его русскоязычным читателем и избавить его от возможных двусмысленностей, возникающих то и дело в связи с тяжелым слогом британского философа. Как бы там ни было, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мое «Введение» и мое прочтение требуют усовершенствований и сами должны быть поставлены под вопрос.
Литература
Brassier, R. (2007) Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. PALGRAVE MACMILLAN
Lyotard, J.-F. (1991) The Inhuman. Reflections on Time. Stanford University Press
Брэйссер, Р. (2008) Презентация как
Бурдье, П. (2016) О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС
Фрейд, З. (2017) «Я" и "Оно»: сборник. СПб.: Азбука-Аттикус
