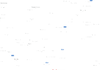Оля Шапиро-Рублёва: и я помню её
Оля Шапиро-Рублёва — поэтка, авторка, междисциплинарная художница. Родилась в
По образованию философ_ка. Выпускница школы современной фотографии Докдокдок; окончила курсы «Больше чем проект» и «Больше чем Шоу» Яны Романовой и Марии Мориной, курс «Креативное письмо» Галины Рымбу в ШИКИ и несколько курсов от WLAG.Соавторка коллективного зина «Цифровая пыльца»
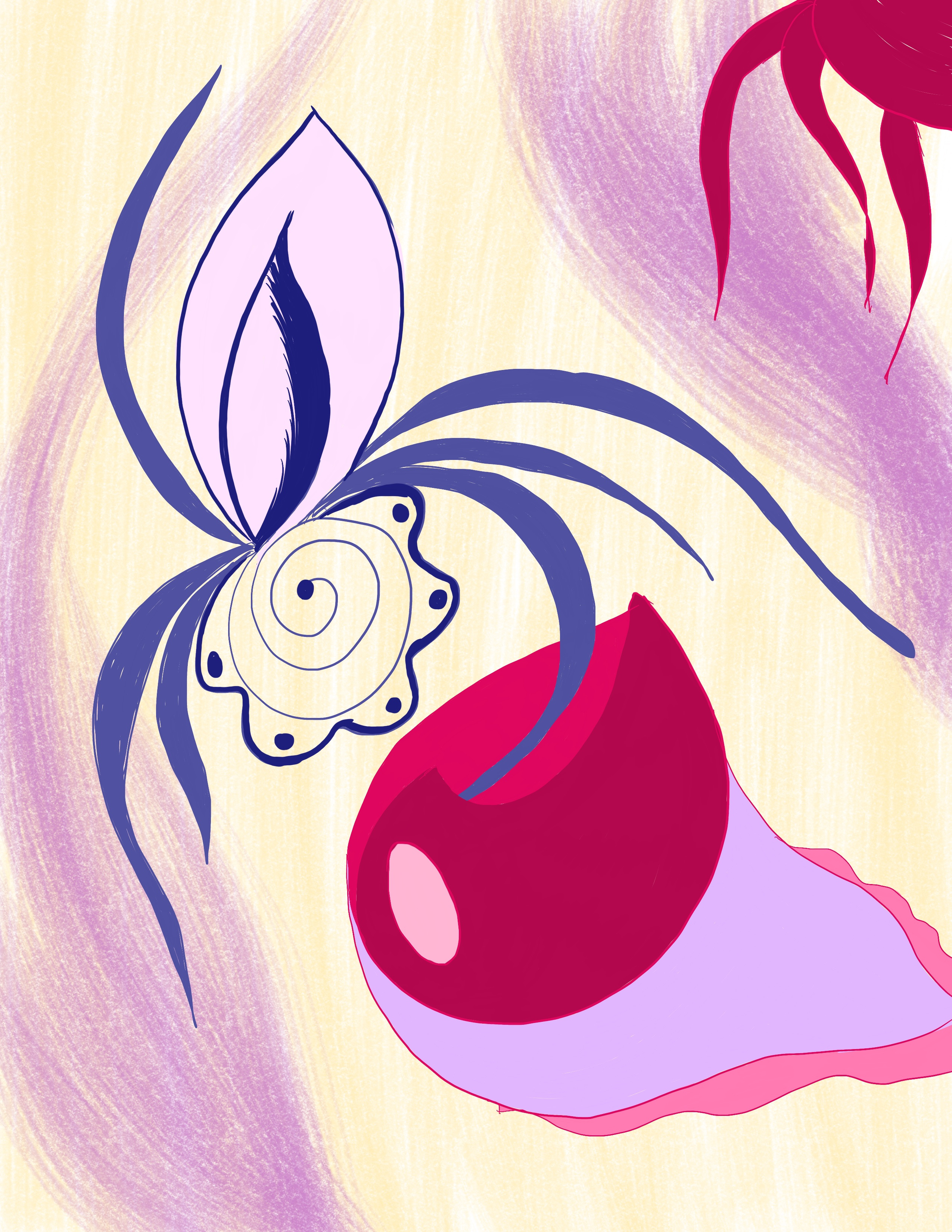
ЯГОДКА
Ягодка сердито посмотрела на меня
и не захотела срываться,
раздавилась
между моими пальцами — знала, что так
я её не смогу съесть.
Брезгливая я
с детства, мама говорит,
даже грудь поэтому брать не хотела,
всегда морщилась.
Ей пришлось меня яблочным пюре выкармливать
и детским питанием от Nestle
из больших жестяных банок с мишкой.
Я видела их потом под шифоньером
и всё спрашивала:
что там внутри?
Эти банки с питанием
маме помогала доставать её подруга
тётя Галя. Так
на них я и росла
до
никакое не ела.
Я думаю,
мама очень волновалась, потому что в роддоме
ей акушерки сразу сказали:
не привыкайте! скоро всё равно умрёт. —
Я маленькая родилась, точнее,
меня достали.
Сначала
врачи долго не шли к моей маме, когда было уже пора,
а потом
сразу на стол и кесарево, со словами «что же вы, мамочка, передержали?!»
2700; сморщенная;
большая
непропорциональная крошечному тонкому тельцу голова.
И
ни на кого не похожая.
В первый день, когда меня принесли маме,
она чуть не отказалась, сказала: что же это?!
это не мой ребёнок!
вы перепутали! он
ни на кого не похож!
Соседке-то по палате
девочку принесли — копия отца.
Среди персонала паника, срочно
стали бирки сверять — Нет! Ваша, ваша, берите!
А вот с кормлением вышла какая-то ерунда.
Раньше (я не знаю, правда, как сейчас
в муниципальных больницах) детей почему-то
держали отдельно и выдавали
матерям только для кормления,
как к коровам на фермах телят подводят только по расписанию, если вообще…
Так вот врачи
назначили маме капельницу
как раз на часы, которые приходились на время кормления, и
даже не разрешали ей держать меня на руках.
«Так ты и лежала в пустом коридоре напротив открытой двери в палату одна
и плакала.
А я даже не могла встать.
И одна женщина,
у которой во время родов умер ребёнок, ходила вокруг тебя и всё повторяла
и спрашивала:
“Чей это ребёнок? Он никому не нужен. Я могу его забрать. Я возьму его. Почему он кричит один”. А я
даже не могла встать…
И молока у меня сначала почти не было;
очень мало. И я ходила на молочную кухню
на другой этаж
после операции.
Но не успевала почти всегда.
Хотя и было объявление, что это только для тех, кто нуждается,
и не больше 1-2х баночек на руки, другие женщины всё разбирали,
даже те у кого своего молока
достаточно было.
Ходили
воооот с такими сиськами и под них баночки прятали. А потом выставляли их через несколько часов в коридор —
прокисало же всё. Им оно
ведь и не нужно было,
своего полно…
Да, чего уж там…» —
и машет рукой
на пустые воспоминания на опыт свой
на рану
на них на себя на нас.
Таких уязвимых, беззащитных
маленьких.
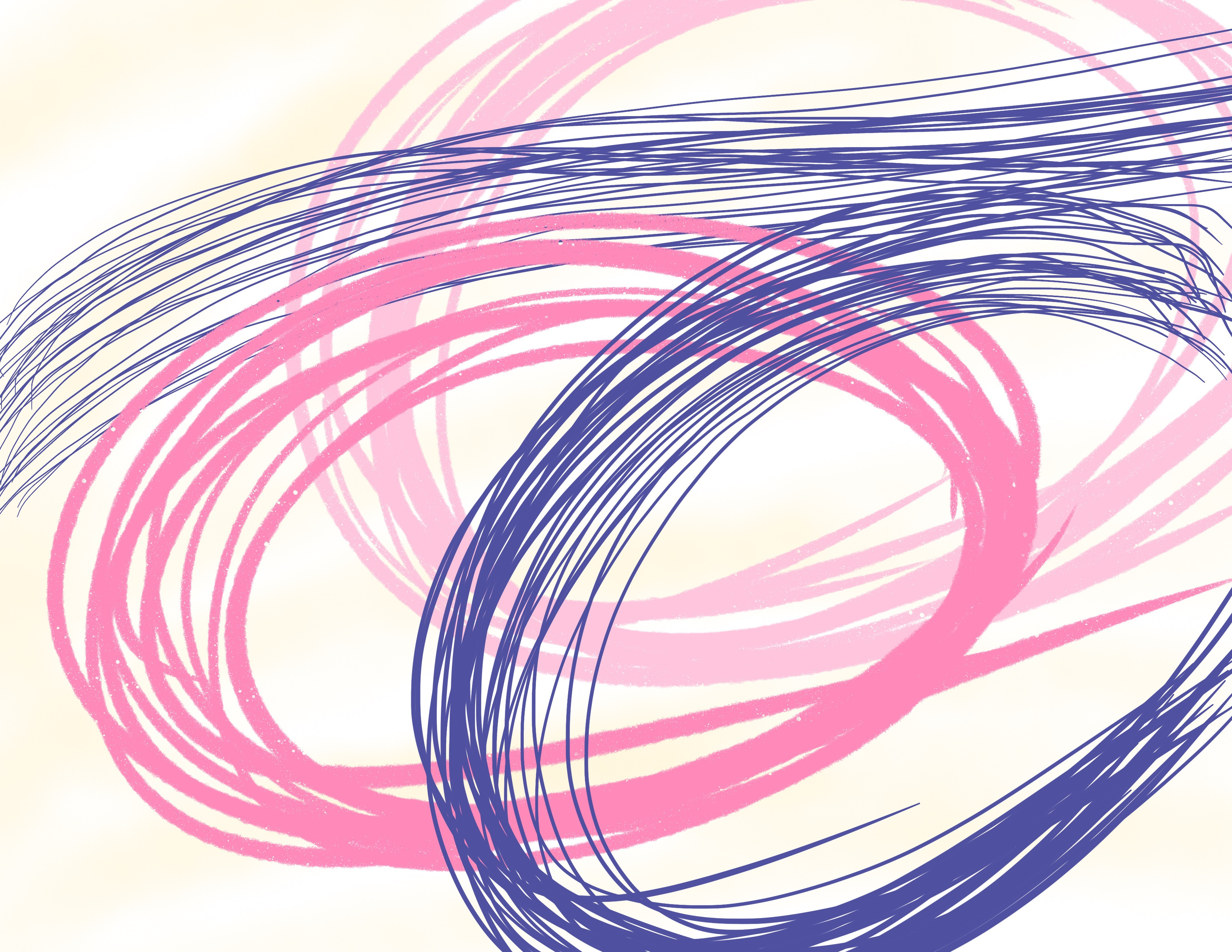
ВОСКРЕСНЫЙ СОН
снился наш старый дом
теперь я в нём хозяйка
голая или в одной только юбке
хожу по его пустым комнатам
по саду
снимаю бельё с верёвки забора подбираю ягоды
какие-то подростки заглядывают в окно
одним лишь взглядом я прогоняю их
меня как ведьмы они боятся вскрикивают и убегают
они думают что я смущаюсь от того что голая
они думают я буду стыдиться своего тела
но мне не стыдно
я в своём доме розовом с зелёными дверьми и ставнями
я в своём теле
я в своём доме
я в своём теле смотрю на них зелёными глазами
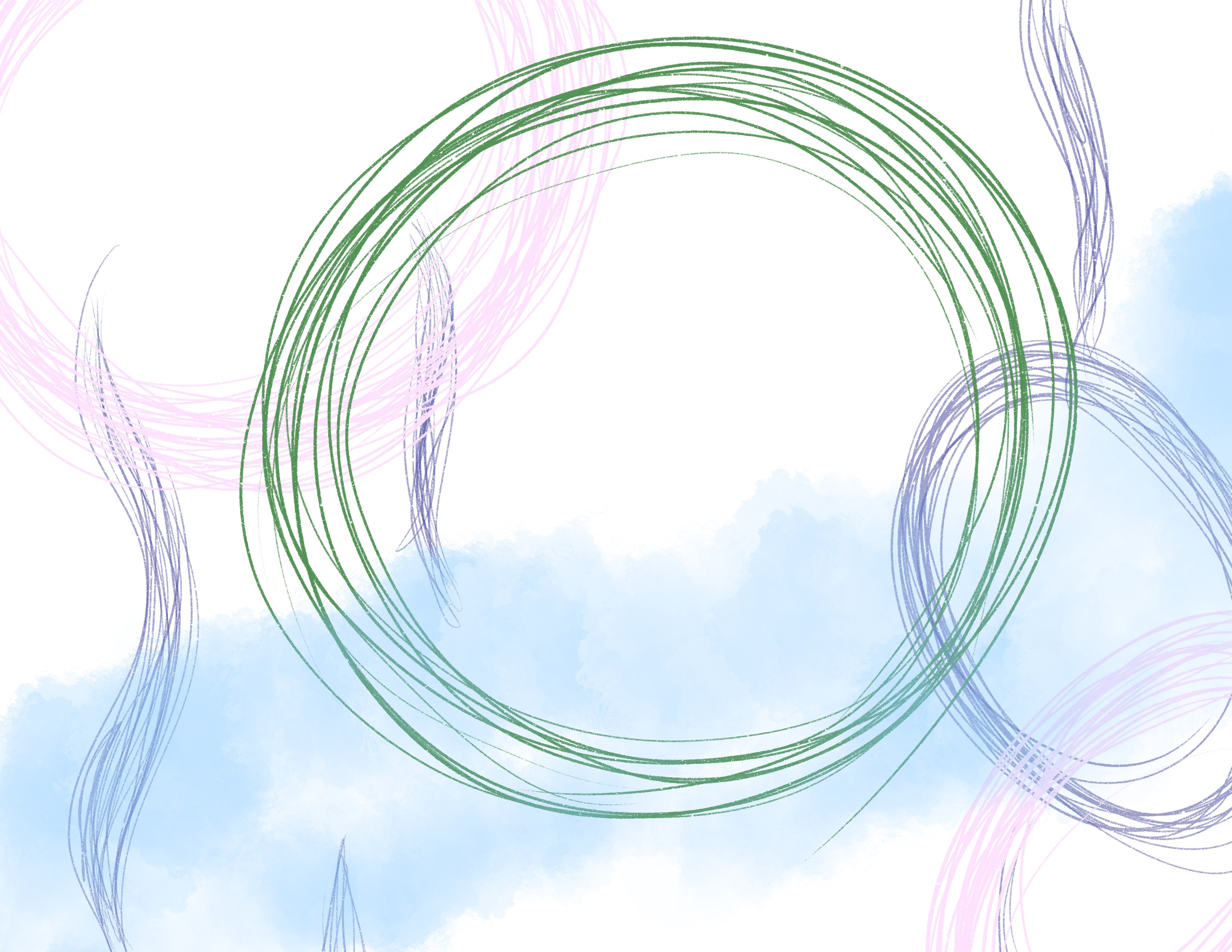
***
Когда меня спрашивают, не скучаю ли я по «родине», по России,
я честно говорю «нет».
Я скучаю лишь по родным.
И то не постоянно. Тоска (?),
скорее невыраженная, невысказанная любовь накатывает волнами;
прилив–отлив,
прилив–отлив.
И море снова спокойно.
Всё снова где-то в глубине,
во впадинах,
мрачных, тёмных, довлеющих. Но лишь когда ты там, а не
у поверхности.
Способна ли я вообще испытывать тоску — настоящую?
А любовь? Или только страх?
Потери. Исчезновения. Смерти. Забвения. Небытия. Способна ли я
к любви? А не к потреблению и жажде.
Я пью из солёного моря
то, чем нельзя напиться.
Соль оседает и оставляет следы,
разводы.
Я пью из солёного моря,
оно меня иссушает. Оно меня наполняет.
Возможность наполнения есть признак пустоты.
Я соскребаю скребком со стенок.
Соль. Кристаллы. Пыль.
Небытие.
Коряга, принесённая с моря,
похожа то на ребёнка то на старика
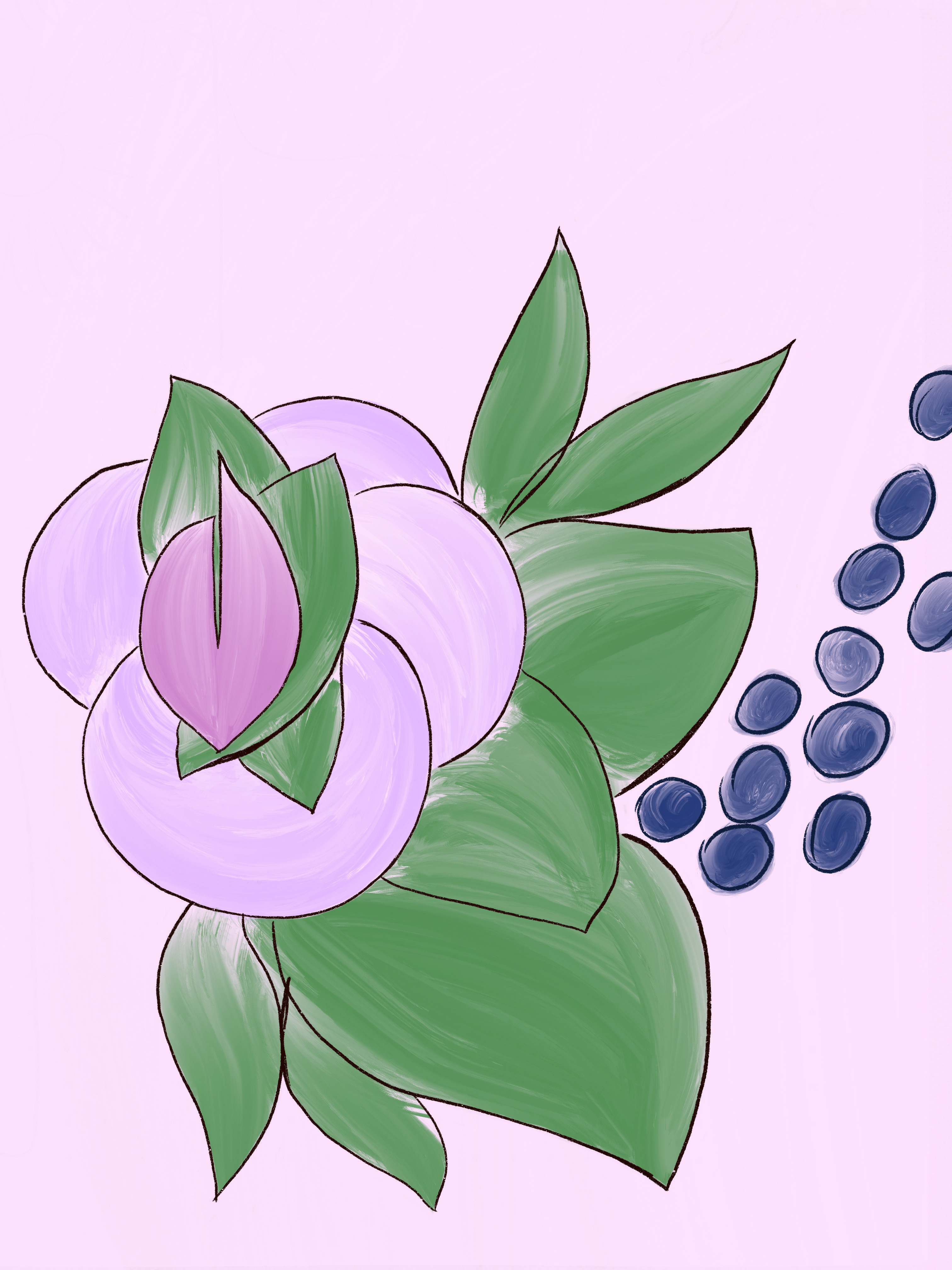
ПРО ИМЕНА ФАМИЛИИ
Мою бабушку по маме звали Аня, а фамилия её девичья была Шпорт, а потом стала Алексеенко и я помню её:
в кухне у печки или у раковины
в её спальне у окна на стуле за швейной машинкой с чашкой чая
в одной из других комнат в кресле под большой вышивкой крестиком с тремя крупными цветами под стеклом в массивной тёмной брутальной деревянной раме
Я помню её под липой на шатком поющем стуле она собирает цветы дерева в подол фартука и миску широкую у её ног
Она сидит у забора на улице с соседками
закрывает ставни м е д л е н н о обходя дом тяжело и шумно дышит
Я помню её по утрам с пирожками ватрушками в сметане и
какой день путает имена дочерей и внучек, но только не моё меня всегда она зовёт ласково розочка розочка розочка моя розочка моя
она собирает чайные ложечки под подушкой, а потом они падают за кровать и пропадают безвозвратно бесследно без следа без звука потому что плохо слышно как они звенят ударяясь о деревянный пол в маленькой комнате
из верхнего шкафчика буфета пропадают конфетки по одной или горстками мигрируют в карманы её платьев-халатов фартуков под подушку в угол к стене под кровать на деревянный пол в маленькой комнате сладкой с чайными ложечками взгляд скользит сквозь пространство неузнаваемое застывая в знакомом времени не здесь не сейчас
Мою бабушку (по маме) звали Аня, а фамилия её девичья была Шпорт, а потом стала Алексеенко и она передала эту фамилию моей маме и её сестре
Мою маму зовут Тамара, а фамилия её девичья была Алексеенко, а потом стала и теперь есть Шапиро и она передала её мне