Артемий Магун. Метаэтика
В издательстве Института Гайдара выходит второй том «Энциклопедии диалектических наук» философа Артемия Магуна под названием «От триггера к трикстеру», посвященный вопросам этики. В ней осмысляются возможные принципы действия субъекта в ответ на этический вызов зла: эмоционализм триггера и провокацию трикстера.
Публикуем отрывок из этой книги, в котором обсуждаются проблемы, ставящие под вопрос саму возможность занять этическую позицию.

Обычно сегодня «метаэтика» — термин, используемый в аналитической философии для формального анализа этических высказываний. Однако в прямом смысле приставка мета- употребляется в философии, когда речь идет об условиях возможности того или иного поля деятельности, о частном акте, который затрагивает само существование этого поля (как, например, у Канта в «Споре факультетов» революция угрожает самому существованию права, различию между правом и философией [1]). Поэтому мы бы хотели здесь зарезервировать термин для диалектического уровня рассмотрения, то есть для тех проблем, которые ставят этику и этическое вопрошание под вопрос как таковые, в их отличии от простой объективной дескрипции и от этического самоустранения.
Этика может бесконечно рассуждать о соотношении добра и зла, но перед ней встает опасный метавопрос о месте этического субъекта. Является ли этической сама возможность его занимать, и, наоборот, что ставит субъекта в этическую позицию? Условием для такой позиции как минимум является негативность — не в смысле зла, конечно, а в смысле отстраненности человека от непосредственных стимулов действия (привычки и физической потребности). Но этический субъект не только отстранен — он может приказывать, господствовать (хотя бы над самим собой, но также над пред- полагаемым человеком вообще, если акт имеет этическую общезначимость и императивность), им обычно двигают приподнятые моральные чувства, он открыт запросам извне.
Проблем тут три.
Первая состоит в том, что этическая негативность, как и любая негативность, потенциально чревата злом. То есть если принять, что этика в принципе против негативности как таковой, зла (хотя и допускает ее в умеренных рамках), то этический субъект противоречит сам себе.
Отсюда распространенная критика «буржуазного» этического и этичного субъекта «слева»: легко учить добру и злу и обсуждать искренность, когда у тебя есть постоянный доход и ты чисто материально отделен, приподнят над ситуацией. Но и сам субъект со своей точки зрения несостоятелен: в своем «буржуазном» отрыве от нравственных практик он теряет и содержание этического выбора, и возможность его эффективно реализовывать. Гегель обращает внимание на эту проблему в связи с кантовской этикой, которую он называет индивидуальной «моралью», сводит к негативному моменту субъективации и оправдывает только последующим возвращением субъекта-гражданина в лоно государственной жизни, то есть «нравственности» [2].
Вторая проблема состоит в том, что в этическую позицию субъекта ставит не только кризис, но и речь другого: приказ или требование. В собственно этическом регистре эта речь, скорее всего, будет негативна: она выражает за- прос, нехватку, просьбу о помощи, моральный запрет, а иногда моральное обвинение. То есть этический субъект — не совсем автономный субъект. Это известная линия рассуждений Левинаса, который критически рассматрива- ет традиционную этику утилитарного или деонтологического типа. До
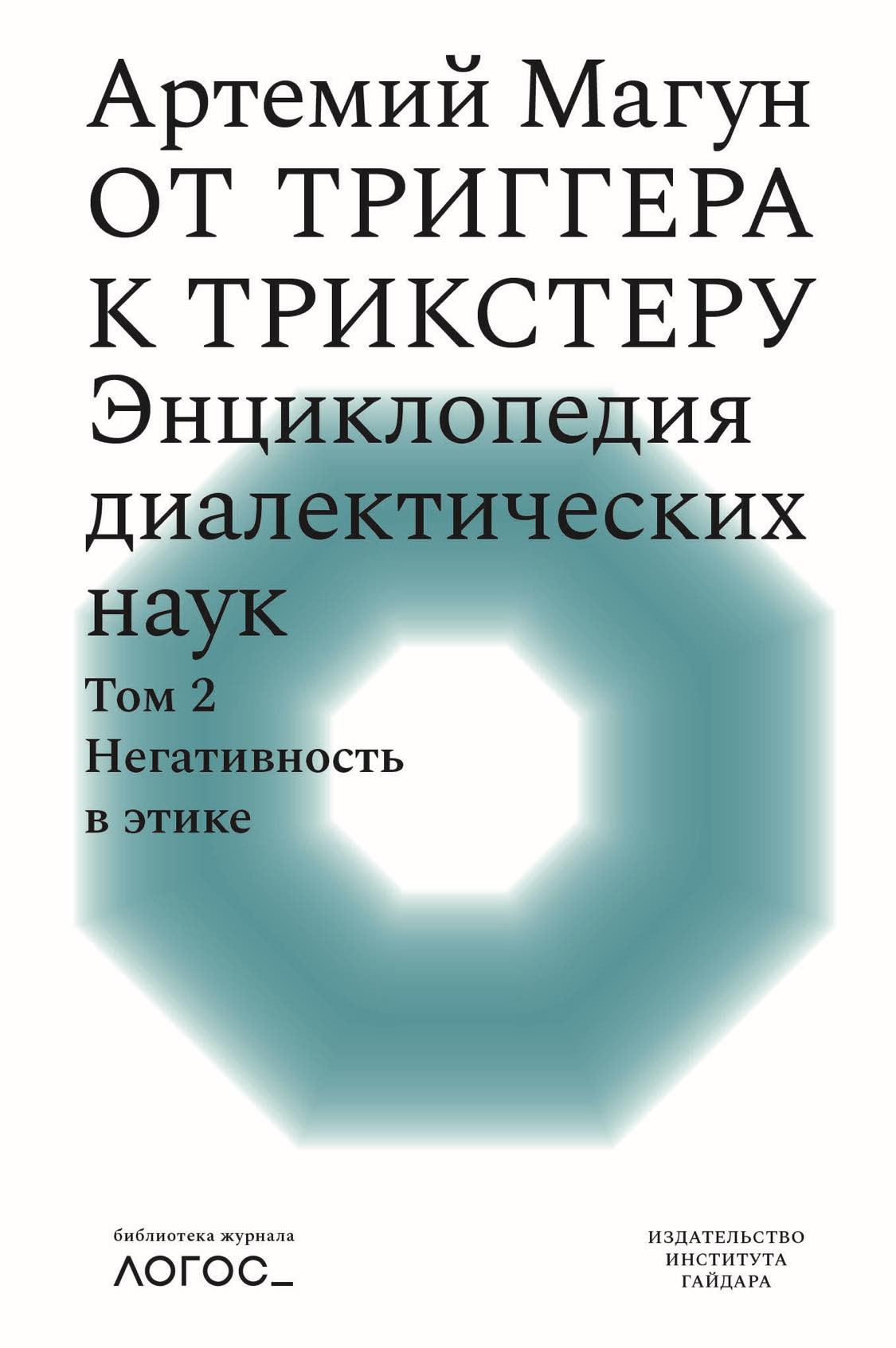
Эта третья проблема вытекает из диалектики отрицания. Вынесем за скобки Другого. Но есть еще Другое: то есть материальные объекты желания и телесные ритмы желания. Тут тоже нехватка. Но этический субъект должен дистанцироваться от них. Даже если это не кантианский субъект, а, скажем, утилитаристский субъект-гедонист, он все равно должен объективировать свое удовольствие и неудовольствие, взвесить различные объекты желания и т. д. Но полное отрицание этих объектов и желаний и невозможно, и нежелательно. Следовательно, они довлеют над субъектом в снятом, недоотрицаемом виде. Вспомним, что сказали вначале: в этическом отрицании объекта есть зародыш зла, и он, в частности, в том, что это отрицание неполно.
Возможно, у субъекта есть не просто множество подобных объектов, но некие привилегированные желания, в борьбе с которыми, принося их в жертву или травматически лишившись их, он утверждает свою автономию. Тогда у этического субъекта есть скрытая «патологическая» привязка, которая подвергается конститутивному вытеснению, чтобы обеспечить ему этичную жизнь. Это может быть совсем скрытая непристойная страсть, порок, болезнь, а может быть «симптом», который метафорически эту страсть обозначает. О такой возможности нам напоминает психоанализ, особенно в лакановской интерпретации. Обратите внимание, что, как и в предыдущем пункте, возникает ситуация главного, сущностного желания (чего я хочу «на самом деле»), которое ставит под вопрос обычную субъектную этическую позицию. Это вопрос истины, или «наслаждения» (в лакановском смысле парадоксального удовольствия-от-боли).
Но какие отсюда следуют этические выводы? Жижек и Зупанчич считают, что здесь необходимо отрицание отрицания: субъект должен утвердить свою негативность, сняв упомянутую «нечистую» негативность, воплощенную в симбиозе с объектом, в жертвенном отказе от него. Это возможно лишь через этический акт, который заключается в самопожертвовании субъекта, но таком, где приносится в жертву сама субъектность, сама этическая позиция (с ее встроенной созерцательностью), и на свет выходит, казалось бы, прирученная ранее негативность. Субъект жертвует самой своей жертвой, революционно взрывает свою жизнь, реализуя, в той или иной форме, материальное первовытесненное. Например, буржуазный субъект вступает в ряды коммунистической партии, чтобы ликвидировать тот имущественный разрыв, который давал ему этическую панораму общества, причем готов при этом использовать насилие, табу на которое было ядром его прежней буржуазной этики. Жижек вполне последовательно указывает на этическую диалектику данного решения, утверждая, что оно меняет местами зло и добро: зло, то есть насилие, экстремальная негативность, оказывается первичнее добра, вбирает в себя добро. Освобожденное от репрессивного взгляда этического субъекта подобное зло теряет свой оценочно негативный смысл и предъявляет себя как своего рода добро или по крайней мере как истина ситуации. То есть мы приходим к проблеме этической истины, как и в предыдущем пункте.
Насколько это «отрицание отрицания» этики, предлагаемое на разные лады и Гегелем, и Форти, и Жижеком с Зупанчич, действительно оправданно? Избегает ли оно двусмысленности наших четырех амфиболий? Ведь нам тут предлагается переосмыслить зло как добро, принять и реализовать наше влечение к «злу» (в данной ситуации) и тем самым перевернуть шахматную доску. На мой взгляд, это решение все равно формулируется этическими интеллектуалами, которые никаких этических актов подобного рода не совершают, по крайней мере глобально — то есть, возможно, они совершают в жиз- ни решительные поступки, например разводятся с супругами, рискованно выступают и теряют аудиторию и так далее, но явно отсутствует описанная ими структура удара по центру. Вывод мой состоит не в том, чтобы они обязательно совершили такой акт, так как в результате мы потеряем лучших этических мыслителей мира, и это, возможно, будет неправильно с точки зрения истины. Скорее, вывод в том, что даже при необходимости этической истины нам все равно потребуется инстанция этического решения, некий моральный авторитет (каким в психоанализе, например, является аналитик, а в гегелевском государстве — суверен), который опознает и оценит данный негативный, разрушительный акт, совершаемый Другим, как в конечном счете добро или хотя бы «наслаждение». Ибо добро и зло конституируется интерсубъективно, или интрасубъективно, парой «действие — оценка», «запрос — ответ».
Примечания
[1] Кант И. Спор факультетов // Собр. соч.: в 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 57–136.
[2] Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
[3] Forti S. New Demons. Rethinking Power and Evil Today. Stanford: Stanford University Press, 2014.